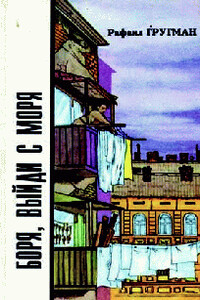Но где вы видели мальчика из приличной еврейской семьи, который ежедневно бегал бы «бег трусцой»?
Короче, тут пошли уже еврейские штучки. На середине моста, когда у него сбивалось дыхание, он вдруг вспоминал что-то заранее заготовленное из Ахматовой и, выбрасывая белый флаг, спасительно начинал: «Слава тебе, безысходная боль! Умер вчера сероглазый король…»
Конечно, бегать и читать стихи невозможно. Так что дальше они уже шли пешком, и мучения его на этом заканчивались.
Но это — не забывайте о маме — только полбеды.
Дед Марины, в прошлом белый офицер, докатился с Добровольческой армией до Чехии. Из множества дорог, живо описанных Толстым и иже, он выбрал далеко не худшую, сменив мундир офицера на сюртук студента Пражского университета, в стенах которого он и познакомился с княгиней Ольгой, будущей бабушкой Марины. Естественно, они поженились и в двадцать четвертом произвели на свет Марининого отца. Тот, как принято, получил два высших образования, произвел двух дочерей, а когда Хрущёв предложил старой эмиграции возвратиться на Родину, то захотелось вдруг отцу Марины, никогда не видевшему России, вернуться на берега свои…
Теперь вы поняли, что Марина не просто русская, а внучка белого офицера и дочь весьма сомнительных родителей.
Как заикнуться маме ещё раз о женитьбе — уму непостижимо! Ослушаться? Да как вы могли такое произнести?! Разве Мальчик не знает, как она забегала все годы ему дорогу, обе руки подкладывая под трамвай. Нет, нет и ещё раз нет! Видеть её слёзы — скорей самому захлебнуться в них.
Но чтобы Мальчик не колебался, чтобы не было у него сомнений в решительности мамочкиных слов, твёрдо защищающей кровное право на выбор достойной невестки, через день, не оставляя никаких шансов на возможный компромисс, — лаконичная телеграмма в деканат: «Волнуюсь молчанием Вылетаю пятницу Заклинаю Мама». И с интервалом в два часа, не давая опомниться, нокаутирующая вторая: «Срочно позвони домой Не делай глупостей Мамы сердечный приступ Целую Лена».
Две упавшие на стол замдекана неразорвавшиеся бомбы буквально вырвали его с лекции. Гневные крики возмущённой женщины: «Немедленно звони домой! Как ты можешь так волновать мать!» — окончательно разрушили хлипкую оборону. Когда по срочному тарифу он сумел дозвониться до Одессы и услышать взволнованные голоса живых ещё мамы и сестры, секундантам его было впору выбрасывать белое полотенце.
— Мамочка, успокойся. Как твоё здоровье?
— Я не желаю тебя знать! Ты обещаешь мне её оставить?
— Но ты ведь её не знаешь.
— И знать не хочу! Я для того тебя растила, чтобы ты мою жизнь укорачивал?
— Мама, как ты себя чувствуешь?
— Моим врагам! Я знать ничего не желаю! Ты должен её оставить! Ты мне обещаешь?
— Подожди… Дай я тебе всё объясню…
— Нечего мне объяснять! Ты что, хочешь моей смерти? Ты должен её оставить! Ты мне обещаешь?
— Да, но…
— Ты дал мне слово. Я из-за тебя все ночи не сплю! Мне стыдно людям в глаза смотреть!
— Мама, успокойся. Всё будет хорошо!
— Моё здоровьё не блещет. Лене через месяц рожать, а у неё из-за волнений с тобой болит живот. Мне всё это надо? Ты подумал о нас? Ты подумал, что будет, если у неё из-за тебя будет выкидыш? Счастье, что папа умер и этого не слышит! Не дай бог дожить до такого!
— Мамочка, не волнуйся, я никогда не женюсь.
— Ты мне обещаешь с ней расстаться? Я могу не прилетать?
— Я же тебе уже сказал. Занимайся Леной. Ей скоро рожать.
— Сыночка, ты дал мне слово. Возьми себя в руки. Будь мужчиной. Я все дни сижу на корвалоле. Ты ведь знаешь, как я тебя люблю и хочу видеть тебя счастливым. Но только в Одессе и с нашей девочкой.
Кто посмел бы после такого разговора огорчить маму? Причинить её истерзанному сердцу лишнюю боль?
И с детства образцово-показательный Мальчик, остудив в маминых слезах пылкое мужское сердце, мужественно выполнил сыновний долг, невнятно пробормотав недоумевающей Марине, что мама… через год он должен уезжать… он обещал… у сестры болит живот…
Сестринский живот Марину окончательно доконал, ибо со времён Второго Храма не было ещё в мире более веского аргумента в пользу рассторжения двух сердец.