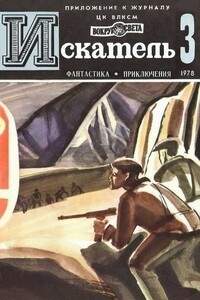В одежде жителей тоже преобладал белый цвет: белые длинные платья женщин, прихваченные в талиях голубыми или розовыми кусками материи, белые рубахи мужчин, белые штаны чуть ниже колен, иногда — голубые и даже синие шейные платки, закрывающие шеи. Просто, но нарядно. И дети — в таких же рубашонках, только цвета у них разнообразнее — и голубые есть, и синие, и светло-жёлтые, и зелёные, как несуществующая в округе трава, и даже красно-жёлтые, как горы, окружившие городок. Мужчины, как и старцы, все — бородаты, но бороды аккуратно подстрижены, не болтаются неопрятными метёлками. Головы у всех непокрыты — даже у женщин. Украшений — никаких: ни ожерелий, ни браслетов, ни серёг, ни перстней. Обувь — кожаные сандалии на ремешках, детвора — босиком, ноги, естественно, грязные и в ссадинах: детишки, в свободное от наблюдения за Черновым время разумеется, вели себя так, как все дети всех народов во все времена.
Чернов делал выводы на бегу: по внешнему виду жители близки иудеям, близки эллинам, близки латинянам, но в сумме — ни те, ни другие, ни третьи. Скажем, иудеи времён Христа — и ранее! — не знали штанов. Одна рубаха без мантии поверх — и человек в той же Иудее считался нагим. Украшения обожали женщины всех народов. Головные уборы были необязательны, но всё же предпочтительным считалось покрыть голову. В Иудее, например, — платком. Ну и так далее, лень вспоминать…
Но всё же: что за язык?.. Раз мёртво молчат, надо попытаться пробить мертвечину.
Чернов опять поднял руки горе и крикнул на иврите, обращаясь ко всем и ни к кому:
— Привет вам, добрые люди!
Повторил то же по-гречески, на латыни, по-испански… Несколько секунд висела мёртвая тишина, только шлёпали его кроссовки по сухой земле. И вдруг тишина разорвалась нестройным разноголосьем:
— Привет тебе, бегун!.. Ты пришёл!.. Слава бегуну!.. — И уж вовсе несуразное: — Спасибо тебе, бегун!..
Чернов понял всё, кроме главного: что всё-таки за язык? Сам себе изумился: как это так возможно с точки зрения лингвистики — не объединить разрозненные понятные слова в нечто целое с точным названием? Раз понял, значит, не чужое, знаемое, слышимое… И мгновенно, как озарение: это же просто дикая смесь древнееврейского и арамейского, хотя и, странно произносимая, с какими-то гортанными, горловыми звуками. А странно произносимая оттого, что никогда не слышал живого арамейского, только пробовал самостоятельно читать на нём что-то из свитков Кумрана и Наг-Хаммади, интересно было. Может, он так и звучит — гортанно, с клёкотом… Стало спокойнее. Поначалу можно будет ивритом пользоваться, да и арамейских слов он немного, но знает. Короче, для бытового общения хватит, а за пару-тройку дней он — буквально — наслушается, постарается максимально увеличить запас, и жить станет комфортней.
И опешил от собственной — как запрограммированной! — обречённости: а ведь, похоже, он смирился с неизбежностью сколько-то долгого пребывания в чужом мире, в этом сраном городишке, где зной стоит, как вода в стакане. А он, Чернов, как кусок сахара в том же стакане: и тает, и тает, и тает, костюмчик — хоть выжимай. Знал бы, что приличий не нарушит, снял бы, бежал нагишом. Однако политкорректность — она и в чужом мире, в сраном городишке оною остаётся…
И он, Чернов, здесь тоже остаётся, как к гадалке не ходи, и не на день-другой-третий, а на не определённую никем (разве что кем-то свыше…) уйму времени, и никто (особенно тот, кто свыше…) не станет интересоваться мнением Чернова по сему поводу. Казалось ему, что всё с ним случившееся — не случайность вовсе (тавтология намеренна), а некий Процесс с большой буквы, в котором Чернов должен играть некую же специальную роль. Километры километров, набеганные за долгие годы в гордом одиночестве (на дистанции нет попутчиков, только соперники!), приучили осознавать происходящее в жизни не фрагментарно, не как цепочку случаев, а целостно — именно Процессом. Бегом. Начав сей бег в Сокольниках, Чернов рано или поздно где-то закончит его. Где? Лучше всего — в тех же Сокольниках, но может статься, что совсем в ином пункте пространства-времени, раз уж дистанция пролегла в не им заданных пространственно-временных координатах. Он — стайер, Чернов, не только по спорту — по жизни тоже, по отношению к ней, по логике мышления. Он только начал бежать, времени прошло — копейки, пространства освоено — устать не успел, и вряд ли он, лишь глянув одним глазком на чужие миры-времена, сразу же где-нибудь финиширует. В таком случае провалиться в прореху должен был не он, а какой-нибудь его прежний корешок по легкоатлетической сборной — из спринтеров, из стометровщиков. А провалился-то он, стайер. Значит, бежать ему по определению — или, если хотите, по предназначению! — ещё долго, надо беречь дыхалку и силы и не тратить их на пустые и бесполезные страдания.