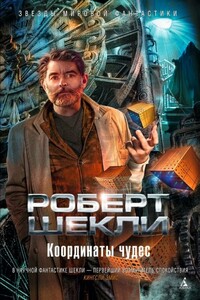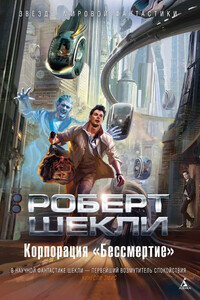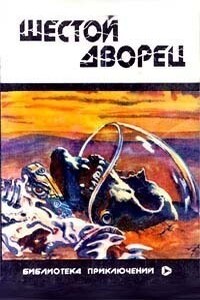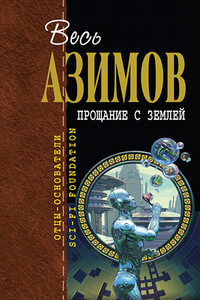Звезды лучились резким льдистым светом. На песке лежали огромные лужи чернил. Холодно, снаружи холодно. Еле слышно жужжал крохотный моторчик в районе подбородка, гоняющий силикон между двойным лицевым стеклом, чтобы не заиндевел. Римкин сделал шаг. Еще один. Пустыня засасывала его башмаки.
Другие… Дело было даже не в том, что они ему неприятны. Они просто оставляли его в бесконечном недоумении. Дюны и тени приняли его. Он шел и глядел вверх. Одна яркая звезда… двигалась. Если стоять неподвижно, это было видно отчетливо. Фобос? Деймос? Он знал, что это одна из двух крохотных марсианских лун. Но хоть убей, Римкин не помнил, Страх или Ужас бежит по застывшей россыпи самоцветов в марсианской ночи.
Впереди лежали развалины.
Он попытался заглушить тревогу, корчившуюся на периферии сознания. В человеческом теле постоянно происходит более семисот пятидесяти жизненно важных ферментных реакций. Если хоть одна из них остановится на две-три минуты, человек умрет. Итак, чтобы локализовать страх, свободно гулявший в его мозгу, Римкин тревожился, что одна из семисот пятидесяти с лишним сложных реакций внезапно остановится, пока не затерял предмет своего страха среди дюн. А сам страх свободно парил над ним, осязаемый, как тонкие колонны и резной архитрав.
Он поглядел в лица, почти невидимые во мраке. Лишь мерцание звезд отражалось в глазах, отчего они казались серыми; глаза эти смотрели на него. Римкин порылся в рюкзаке, ища фонарь. Нашел не скоро — дважды забывал, что ищет, — и покрутил насадку, чтобы превратить лазерный луч в обычный.
Он повел лучом по камням. Теперь они тоже были серыми. Он подумал, не был ли багровый цвет лишь отражением пустыни. Нет, просто фонарь слабоват. Римкин прошел по песку до места, где можно было взобраться на фундамент, и начал подъем, вновь чувствуя голой кожей скафандр. Подогрев работал нормально, но касание металла и пластика было странным. Захотелось снять скафандр и положить руку на камень, но он тут же испугался своего желания: по ночам температура на Марсе на сто градусов Фаренгейта ниже точки замерзания льда.
Римкин встал на краю фундамента, посветил на упавшую голову и подошел к ней по засыпанным песком плитам. Отколотый фрагмент лица лежал, как блюдце. Отбитая половина глаза была вся в трещинах. Римкин присел на корточки перед бо́льшим осколком лица и склонился над раздробленным оком. Поднял фонарик и повернул насадку обратно, чтобы одинокий узкий луч бил в разбитый круг; там что-то замерцало, и возникло изображение. Образы ушедших столетий, как слезы, потекли из поврежденного глаза.
На планетах с разреженной атмосферой светает быстро. Утро за спиной Римкина вскарабкалось по дюнам и положило сверкающие руки ему на плечи. И тут же в скафандре загудел специальный механизм, едва ощутимою дрожью сообщая телу, что скафандр готовится к подъему температуры на двести градусов Фаренгейта, который произойдет за ближайшие двадцать минут.
— Римкин?..
Кто это дышит ему в ухо?
— Римкин, ты там наверху?
До него вдруг дошло, что вот уже несколько минут он слышит этот голос. Но если это просто звук из механизма у твоего уха, откуда ему знать, где они?
— Римки, вот ты где! Что ты тут делаешь? Ты давно здесь?
Он резко повернулся — и упал.
— Римкин!
Почти девять часов он не менял позы, и теперь все мышцы свело. Сквозь боль, туманом застилающую глаза, Римкин видел, как в облаке пыли к нему скачет вареная картофелина.
Он силился выговорить:
— Зачем… кто… кто вы…
— Это я, Эвелин!
Эвелин, подумал он. Кто такая Эвелин?
— Кто?..
Она добралась до него.
— Эвелин Ходжес, какая еще, по-твоему? Ты ранен? Что-то случилось со скафандром? Так я и знала, надо было захватить с собой Мака. Сейчас наружная температура около десяти по Фаренгейту. А минут через пятнадцать будет не меньше девяноста. В одиночку я тебя до корабля не донесу.
— Нет-нет. — Римкин потряс головой. — Все в порядке. Скафандр. Я просто…
— Так в чем дело?
Боль была невероятная, но на мгновение он овладел собой и сумел выговорить:
— Я просто отсидел… Слишком долго пробыл в одной позе. Я просто… просто забыл.