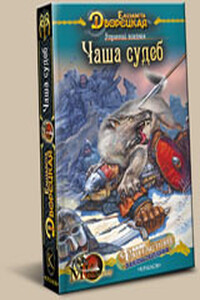Из оружия имелись топоры, которыми угряне владели очень ловко, луки и копья. Щиты, хотя бы по одному на каждого, спешно сколачивали на княжьем дворе – для этого собрали всех мужиков, а руководил ими княжеский кузнец Ветрозим. Щит собрать – большого ума не надо, а умбонов кузнец по приказу предусмотрительного князя заготовил еще раньше, про запас.
Каждого ратника его домашние снабжали съестными припасами. С едой, правда, было плохо – последние остатки прошлогоднего хлеба и крупы уже съели, в закромах оставались где несколько сморщенных репок, где бочонок квашеной капусты. Взяли, что нашлось, недостающее намереваясь добыть из реки и леса.
Не прошло и пяти дней после веча, как войско выступило в поход.
Очутившись в ладье, с зажатым ртом и веревками на руках, Лютава довольно быстро сообразила, к кому попала. Леших от людей она отличала мгновенно, своим не было надобности ее похищать, а чужие в округе имелись только одни – оковцы. Судя по неясному шуму, приглушенному шепоту и плеску весел, здесь собрались они все, оба десятка. И едва ли княжичу Доброславу вздумалось вывести своих людей на ночную рыбалку – скорее всего, они покидают Ратиславль совсем, причем без согласия хозяев. Как это вышло, Лютава знать не могла и надеялась только, что обошлось без кровопролития. Впрочем, тогда за вятичами уже гнались бы и даже до Ярилиной Плеши они не добрались бы так скрытно.
По привычке она первым делом мысленно позвала Лютомера – но не нашла его. Брат не слышал ее и не отзывался. Она догадывалась, что это значит, – дух его ушел в свои собственные странствия по Навному миру, может, сам, может, по чьему-то зову. Как некстати! Именно этой ночью, когда он ей так нужен! Лютава не могла сердиться на самого Лютомера, но темные берега летели и летели назад, ладья уносила ее все дальше от дома, а докричаться до брата она все не могла.
Всю ночь ладьи быстро скользили вниз по течению. Лютава лежала с закрытыми глазами, слушая шум ветра в вершинах деревьев по берегам, крики ночных птиц, плеск воды у бортов. В душе ее жил образ волчицы, в глубинах сознания сдвигались какие-то темные глыбы, дали и времена то вдруг становись прозрачными, то вновь затягивались туманом. Искра сияющих волчьих глаз сопровождала ее неотступно, но она уже не чувствовала горя и сожаления. Волчица добровольно отдала ей свою жизнь, значит, посчитала достойной, и Лютава, несмотря на всю сложность своего положения и неизвестность впереди, сейчас чувствовала себя счастливой. Она знала, что с ней происходит, и в душе сквозь печаль и тревогу пробивалось ликование, упоение тем морем сил, чувств и знаний, которые теперь раскроются перед ней. Не сразу, конечно. Чтобы овладеть ожившим опытом предков, всмотреться в него, уместить в своей душе, научиться его понимать и им пользоваться, нужно еще много работать. Этой работы хватает на всю жизнь, и никакое посвящение не делает враз человека богоподобным. Но главное свершилось, и Лютава уже готова была благословлять судьбу, пославшую ей это испытание и так щедро за него наградившую. Если бы не Доброслав – она так и пела бы на Ярилиной Плеши песню про белый камешек… А волчица отныне будет жить в ее душе. Она совершила наивысший, наипочетнейший в глазах ее лесного народа подвиг – вернула долг Волка Чуру.[11]
И первый образ, который всплывал со дна души, был образом богини Марены, ее священной матери и покровительницы. Тьма и Вода – стихии Темной Матери, и Лютава, очутившись внезапно на ночной реке, стремительно несущей ее неведомо куда, чувствовала себя так, будто мчится куда-то в ладонях самой своей покровительницы. Лежа на дне лодки с закрытыми глазами – да и открой она их, ничего, кроме темного ночного неба, ей не удалось бы увидеть, – она повторяла про себя славления Марене, и они давали ей прочную опору в бурлящем море ее новых ощущений:
Мара Марена матушка гневна
Кощная мара во нощи стала
Мара Чернава всему управа
Мара молода мертвая вода
Мара хвороба земельна утроба
Мара морока ходи от порога
Мара Хмуряна костями убрана
Мара несчастна ходи да не часто