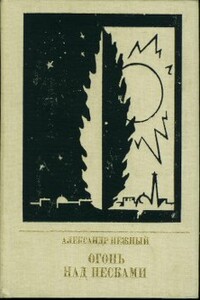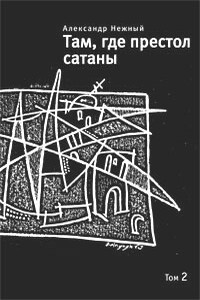— Ч-ч-чево… с-ш-шуч-чонок.. ш-ш-пать… меш-ш-шаеш-шь…
— До ветру мне, пани, — сквозь терзающий его кашель услышал Гаврилов виноватый юношеский басок.
А! Тощий парень лет шестнадцати, поляк, собственной волей отправившийся в Сибирь к сосланному отцу.
— Ш-ш-то… — шипела гадюка, — вш-ш-ш-тавать… из-за т-т-т-ебя… Т-терп-п-и.
— Сказано, терпи! — проснулся и прохрипел кто-то у них на пруте. — По чижолому — до утра, а по лехкому…
— Пус-с-с-ть… в п-п-п-ортки… ш-с-с-ыт…
— Ты, старая сука, сама ссы, — еще один у них пробудился, и Гаврилов знал, кто: всей России известный отчаянный вор по имени Сухоруков, молодой мужик с черными веселыми глазами. — Айда, голуби, айда!
Слышно было, как они вставали, кряхтя и бранясь. Ударившись о прут, звякали цепи.
— Дзенькую, пан, — сказал поляк. — Брюхо крутит… Не мочь более.
Потом страшно матерился приставленный к сараю солдат, в шесть голосов орали на него они, потом, скрипя, распахнулись ворота, стало тихо, и Гаврилов ощутил легкое прикосновение к своему лбу. Прохладой повеяло. Ах, как ему было тяжко, как было жарко и душно и как давило грудь сено, которым, будто одеялом, ухитрился покрыть он себя! Отчего стало вдруг так легко и свежо? Отчего словно свет вспыхнул у него в душе и разогнал черноту последнего года его жизни? Отчего теперь он не чувствует тесно сжавшего запястье левой руки наручья и цепь, приковавшую его к проклятому пруту? Да, да: завтра, в Москве, ему наконец поверят, что он никогда никого не убивал. Помилуйте, господа, мыслимое ли дело сочинять из меня убийцу! Не скрывал и перед вами не скрою: терпеть не мог эту злобную старуху, Оленькину тетку. Она, и только она, будто стеной, встала на пути нашего с Оленькой счастья! Но даже мысли… что мысли! тени мысли, намека, тайного искушения, в котором человек не признается даже самому себе, не было, чтобы отправить ее на тот свет.
Взгляните на меня вашим проницательным взором. Бедный студент. Где мне тягаться капиталом с теми, кто упорно домогается Оленькиной руки! Все отпрыски самых богатых в нашей Коломне купцов; один же старец, пятидесяти пяти лет, с несметным состоянием, прослышав о ее ангельской красоте и таком же нраве, приезжал свататься даже из Москвы. И ему Оленьку обещали. Я как узнал — у меня в голове помутилось. Я готов уже был — нет, не к пролитию крови, избави бог! — а к похищению и тайному венчанию в Троицкой церкви за Окой, о чем была договоренность с ее священником, отцом Алексеем, вполне вошедшим в наше положение. У меня нет никакого капитала. У меня в Коломне мать с жалким пенсионом за покойного батюшку и слугами Домной и Петром, которых не назвать иначе как Филемон и Бавкида, до того они стары и преданы друг другу и матушке. Я у матушки и копейки просить не имею права; меня кормят уроки в пяти семействах и заметки о театре, литературе и различных происшествиях, которые у меня принимает иногда сам Михаил Петрович Погодин, а также «Русский инвалид» и «Московские ведомости». Пусть у меня на нынешний день нет капитала, но у меня есть незыблемые представления о чести, достоинстве и нравственности; у меня, наконец, есть будущее, предреченное моими профессорами в университете, согласно отмечавшими мои успехи в науках, как тов истории, словесности, древних языках и в юриспруденции. Но душа моя восстает и сердце ропщет при мысли о будущем без Оленьки. Не надо мне будущего, науки и капиталы для меня не имеют цены, если ее не будет рядом! Зачем мне жизнь без нее? О да, я грешу, отвергая столь отчаянно и бесповоротно Божий дар, коим, как всем известно, является наша жизнь. И в сугубую вину ставлю себе ускользающую от меня мысль о матушке, не чающей во мне души. Как она вскрикнула, моя бедная, когда в сопровождении двух полицейских явился за мной господин Сыроваров, наш пристав! Несмотря на всю нервность обстановки, я отметил что-то жалобно-заячье в ее крике, сердце у меня упало, и я тоже крикнул, страдая: «Матушка, не надо!» Как она руки простирала, умоляя отпустить ее дитя! Он, мне кажется, был весьма смущен выпавшей ему неблаговидной ролью и, то отводя глаза в сторону, то устремляя их в потолок, гудел своим всей Коломне известным басом: «Анна Андреевна, право… Одно вам могу… И супруг ваш покойный тоже, так сказать, пусть в небольших, но чинах, принимал во внимание коловращение событий. Всякое может, прошу понять. Непременно все выяснится». Когда-нибудь выяснится, я в том уверен. Но ей, матушке, в ее-то годы каково жить с таким грузом на сердце?! Сын — убийца.