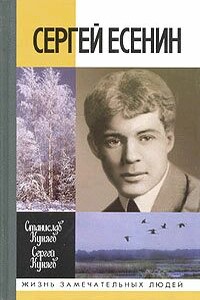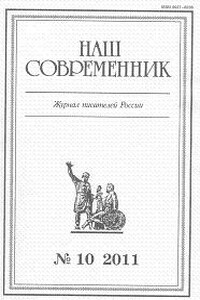Третьего января 1918 года Есенин навестил Блока. В этот день Блок сделал примечательную запись: «На улицах плакаты: все на улицу 5 января (под расстрел?)». Да, именно под расстрел пошли немногочисленные защитники разогнанного Учредительного собрания. «К вечеру — ураган (неизменный спутник переворотов). — Весь вечер у меня Есенин».
Есенин читал ещё не законченную «Инонию». Блок подмечал в его внешнем облике проявившееся сходство с Андреем Белым (тот заражал своей порывистой манерой разговора — и Есенин на какое-то время перенял её). Внимательно слушал, потом задавал вопросы. Есенин — объяснял.
— Я не кощунствую. Я не хочу страдания, смирения, сораспятия.
Последнее слово возвращало к «Посланию к Галатам» святого апостола Павла, часто цитируемому Клюевым: «Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником. Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но во мне живёт Христос».
— Вы — западник, — бросал Есенин Блоку. — Но между нами нет щита, я его не чувствую. И революция должна снять все щиты.
Цепляя на себя клюевскую маску — называясь выходцем из богатой старообрядческой семьи (что не имело никакого отношения к реальности) — связывал старообрядчество с хлыстовством и тут же резко отстранялся от Клюева.
«Клюев — черносотенный (как Ремизов), — записал Блок есенинские слова. — Это не творчество, а подражание (природе, а нужно, чтобы творчество было природой); но слово — не предмет и не дерево; это — другая природа: тут общими силами выяснили».
Это «черносотенный» парадоксально совпало с Гиппиусихиной характеристикой Ремизова, но Есенин вкладывал в слово, естественно, иной смысл. Не о политической реакционности шла речь, а, если угодно, о поэтической. То бишь духовной и смысловой (не только формальной). Это был и камушек в огород Разумника, для которого Ремизов — реакционер, а Клюев — солнценосец.
Блок, конечно, читал разумниковские «Две России». Следы этого чтения прослеживаются отчётливо.
Пафос статьи Разумника, влияние есенинского чтения и долгой беседы с младшим собратом, что лишь недавно (трёх лет не прошло!) приходил к Блоку, дрожа от волнения, — всё отложилось в строках написанной им через несколько дней статьи «Интеллигенция и революция».
«Дело художника, обязанность художника — видеть то, что задумано, слушать ту музыку, которой гремит „разорванный ветром воздух“.
Что же задумано?
Переделать всё. Устроить так, чтобы всё стало новым; чтобы лживая, грязная, скучная, безобразная наша жизнь стала справедливой, чистой, весёлой и прекрасной жизнью… Меньшее, более умеренное, более низменное — называется мятежом, бунтом, переворотом. Но это называется революцией».
И далее размышляет об этом Блок в унисон не только с есенинской «Инонией», но и с клюевской «Песнью Солнценосца».
«Горе тем, кто думает найти в революции исполнение только своих мечтаний, как бы высоки и благородны они ни были. Революция, как грозовой вихрь, как снежный буран, всегда несёт новое и неожиданное; она жестоко обманывает многих; она легко калечит в своём водовороте достойного; она часто выносит на сушу невредимыми недостойных; но — это её частности, это не меняет ни общего направления потока, ни того грозного и оглушительного гула, который издаёт поток. Гул этот всё равно всегда — о великом.
Размах русской революции, желающей охватить весь мир (меньшего истинная революция желать не может, исполнится это желание или нет — гадать не нам), таков: она лелеет надежду поднять мировой циклон, который донесёт в заметённые снегом страны — тёплый ветер и нежный запах апельсинных рощ; увлажнит спалённые солнцем степи юга — прохладным северным дождём.
„Мир и братство народов“ — вот знак, под которым проходит русская революция. Вот о чём ревёт её поток. Вот музыка, которую имеющий уши должен слышать».
«Двенадцать» и стали таким напряжённым трагическим вслушиванием в происходящее. И если Разумник писал о «тёмной веками вскормлённой злобе» в низах и задавался вопросом — не больше ли её в верхах, то для Блока природа этой злобы составляла ещё больший вопрос: