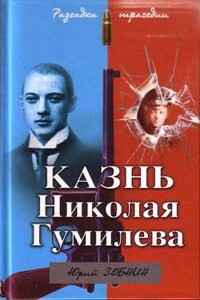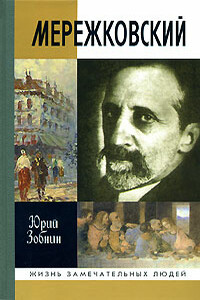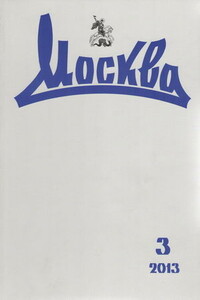Москва, куда поезд коморси вернулся в начале июля, встретила Гумилева невероятным изобилием лиц и событий, сразу утянувших его из штабного вагона в непрерывный калейдоскопический круговорот. Уже в первый вечер по прибытии Гумилев дал импровизированный стихотворный концерт в литературном кафе «Домино», именовавшемся также «Сумасшедшим домом» (на здании по Тверской улице сохранялась дореволюционная вывеска психиатрической лечебницы). Компания завсегдатаев тут была и в самом деле неспокойной, однако, по свидетельству поэта Герасима Лугина, Гумилев «вышел из этого испытания с честью. Читал, как обычно – чуть глуша голос, придавая ему особую торжественность. Скрестив руки, вернее, обхватив локти и чуть приподняв плечи, бросал он с эстрады свои строки. Стихи врезались в память, подчиняли себе, смиряли буйную вольницу «презентистов», «эгоцентристов», «евфуистов» и «ничевоков», разбивших в этом кафе свое становье». Было уже очень поздно, и Гумилев, решительно отклоняя многочисленные предложения прослушать шедевры местных новаторов, двинулся из сумасшедшего кафе. Проход во внешний зал загораживал чернобородый исполин в кожаной чекистской куртке и галифе казенного сукна. Скрестив руки, как давеча на эстраде Гумилев, он упоенно читал вслух… гумилевские стихи.
– Кто сей Самсон? – удивился Гумилев.
– Мне запомнились все Ваши стихотворения, – улыбнувшись, отвечал тот.
– Это меня радует, – улыбнулся и Гумилев, протягивая незнакомцу руку.
– А я Блюмкин, – представился чекистский Самсон, отвечая рукопожатием.
«Имя вызвало к жизни клочья воспоминаний о событиях и днях, – пишет Лугин. – Блюмкин… Брестский мир… германский посол граф Мирбах в Москве и смелое, неправдоподобно дерзкое убийство посла… выстрел и исчезновение среди бела дня убийцы – Блюмкина… Так вот он каков – Блюмкин… Стаяла чуть торжественная напыщенность Гумилева. По-юношески непосредственно вырвалось: «Вы – тот самый?» – «Да, тот самый». И снова рукопожатья и слова Гумилева, чуть напыщенные и церемонные: «Я рад, когда мои стихи читают воины и сильные люди».
У выхода Гумилев вновь, как и несколько месяцев тому назад в Политехническом музее, столкнулся с выросшей, словно из-под земли, Ольгой Мочаловой. Разговор с Блюмкиным так разгорячил его, что, машинально ответив на ее приветствие, он и на тротуаре Тверской восхищенно пояснял новой спутнице:
– Убить посла, хоть и германского, – невелика заслуга, но то, что Блюмкин сделал это открыто, в толпе людей, не таясь – замечательно!..
Лишь через несколько шагов, спохватившись, он быстро переменил тему:
– Вы более прекрасны, более волнующи, чем я думал. И так недоступны!
Мочалова, проводив его до Румянцевского музея, исчезла, лишь проронив несколько слов о завтрашней встрече, а Гумилев, чтобы не брести через весь полночный город к Николаевскому вокзалу, решил попытать счастья найти ночлег во Дворце Искусств на Поварской. Как оказалось, это было не так-то просто: ворота уже замкнули на ночь. Недолго думая, он перемахнул через ограду и остановился под единственным освещенным окном писательского особняка:
– Здесь Гумилев! Пустите переночевать!
– Дом закрыт снаружи! – отозвался из окна женский голос.
– Ну, так откройте окно!
Он легко взобрался к манящему жилому уюту по водосточной трубе, спрыгнул с подоконника и оказался перед обитательницей чердачных палат – поэтессой Адалис (Аделаидой Ефрон). Восхищенная невероятным приключением Адалис, гордясь, рассказывала знакомым, как свалившийся с неба петербургский гость «провел всю ночь у ее ног в возвышенных разговорах». А Гумилев, отыскав на следующий день на Знаменке Ольгу Мочалову, поведал о своем ночлеге с иронией:
– Адалис – слишком человек. А в женщине так различны образы – ангела, русалки, колдуньи. У вас в Москве нет настоящих легенд, сказочных преданий, фантастических слухов, как у нас…
Они беспечно кружили по городу; Гумилев продолжал смеяться над москвичами, которые, как правило, не знают названия соседней улицы и, верно, поэтому неуловимы друг для друга даже по собственному адресу, а затем вдруг разоткровенничался: