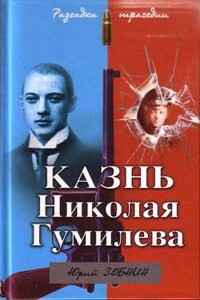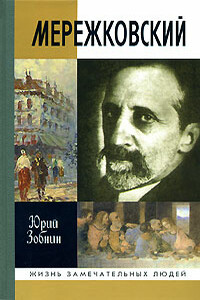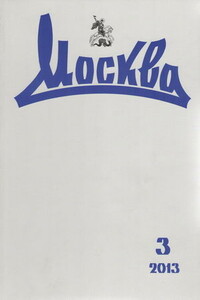«Вся Украина сожжена», – горестно думал Гумилев, глядя в окно мчавшегося на юг «спецсостава» коморси. На злосчастных южных землях почти три года повсюду шли непрерывные боевые схватки немецких, австрийских, французских, румынских и польских войск с отечественными «белыми», «черными», «зелеными», «желто-голубыми» и «красными» отрядами, воевавшими попутно и друг с другом в разных союзах и комбинациях. Во время длительных стоянок на больших железнодорожных узлах напоминанием о недавних боях виднелись мрачные городские руины; сгоревшие же хаты и целые селенья, превращенные войной в сплошные пожарища, мелькали без счета. А Крым еще не остыл от чудовищной бойни, устроенной после прошлогоднего морского исхода разбитой армии Врангеля. Под расстрельные залпы истребительных отрядов «Крымской ударной группы» пошли врангелевские офицеры и чиновники, имевшие неосторожность поверить «красным» декларациям о гражданском мире. Кое-где стреляли и членов их семейств. Для прочих же «буржуев», мечтавших пересидеть гражданское лихолетье за укреплениями Перекопа, был устроен свирепый голодный мор, произведший зимой 1920–1921 г. классовую чистку получше любых карательных экспедиций[550].
Севастополь также сохранял следы войны, оккупации и истребительного разорения. От «колчаковского» Черноморского флота, наводившего в 1916–1917 гг. ужас на германцев и турок, уцелели жалкие остатки. Большинство кораблей либо покоились затопленными в Цемесской бухте под Новороссийском, либо, уведенные врангелевцами в африканскую Бизерту, ожидали приговора властей Франции, Италии и Мальты. Уцелевшие севастопольские старожилы встречали морского начальника РСФСР без особого почтения: «красного адмирала» обвиняли здесь в самочинном оставлении города и флота во время хаоса и гибели, наступивших после октябрьского свержения Временного Правительства[551]. Но среди молодежи, распоряжавшейся на сохранившихся черноморских судах, было много боевых товарищей Немитца по прошлогодним сражениям на Каспии и в Азовском море[552]. Один из них, лейтенант Сергей Колбасьев, с внешностью юного итальянского grandee времен Лоренцо Медичи[553], приветствовал Гумилева декламацией стихов из «Жемчугов», «Чужого неба» и «Колчана».
Книги Гумилева оказались у Колбасьева еще в Морском корпусе и с той поры неразлучно сопровождали его во всех лихих военных приключениях на морях и реках – судьба распорядилась так, что, не завершив учебы, петроградский гардемарин принял сторону «красных» и ушел на фронт. По крови Колбасьев и впрямь был итальянец, и природная пылкость и общительность делала его страстным пропагандистом всего полюбившегося – будь то поразившие воображение поэтические строфы, диковины радиотехники или джазовые композиции[554]. У Гумилева неожиданно появился добровольный импресарио. Стараниями Колбасьева в Севастополе прошли три открытые гумилевские лекции о поэтическом творчестве, во время которых звучали старые и новые стихи. (Ироничный Павлов после рассказывал, что своими лекциями Гумилев не только покорил черноморских книголюбов, но и завоевал сердце некой красавицы из городской таможни. Так ли это, судить сложно: с годами, вспоминая о былинных делах революционной юности, поэт-штабист все больше напоминал барона Мюнхгаузена.) Помимо того, Колбасьев предложил издать в местной военной типографии небольшой стихотворный сборник. За несколько дней Гумилев подготовил для наборщиков рукопись книги стихов «Шатер», превратив прежние тексты «географии в стихах» в лирический гимн Африке, посвященный «Памяти моего товарища в африканских странствиях Николая Леонидовича Сверчкова».
Покойный Коля-маленький, погибший так нелепо, постоянно приходил теперь на ум потому, что в Севастополе Гумилев узнал о другой, столь же нелепой и горькой потере. Столкнувшись с Ией Горенко (Гумилев и не предполагал, что семейство Ахматовой продолжает выезжать в Севастополь!), он выслушал дикую историю о самоубийстве ее старшего брата и своего давнего друга. Андрей Горенко жил с женой и маленькой дочкой эмигрантом в Греции, без средств и сколь-нибудь ясной надежды на будущее. Ребенок тяжело заболел и умер. Это оказалось последним жизненным испытанием, добившим несчастных родителей. Похоронив дочь, они, уговорившись, приняли в афинском гостиничном номере яд