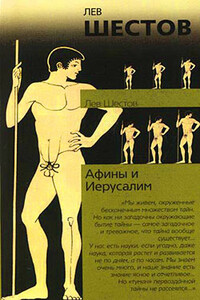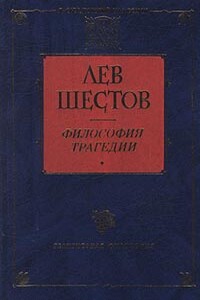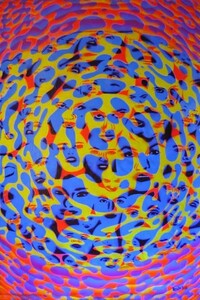Он слышит другое: слышит голос, возвещающий ему, что, когда он уверует, для него не будет ничего невозможного, что Петр окажется оставшимся верным Учителю, Давид окажется автором псалмов, но не прелюбодеем, Сократ не отравленным, и Иов получившим обратно все у него отнятое. Правда, Киргегард признается, что он не мог сделать движения веры. Но разве это хоть сколько-нибудь ослабляет значение того, что до него донеслось из Писания? Не наоборот ли? И вообще, разве какие угодно соображения могут ослабить значение того, что он услышал? Наступил момент, когда кончились все соображения: «чтобы обрести Бога, нужно потерять разум». И не только тот «дискурсивный разум», который более или менее охотно уступают философы, но все разумы, всех качеств и званий, великие и малые, которые до сих пор являлись и продолжают являться единственным источником истины для человека — от всех них нужно отречься, освободиться: подлинным источником истины является вера, вера, которая не то, что не дает, но преодолевает самое несомненное знание («факты» и «непосредственные данные») и, преодолевая его, обнаруживает его ненужность и ничтожность. Мы слышали, что свобода была до Бога, что Бог над свободой не властен, — бессилен пред Ничто; мы слышали, что тьма является условием света, что свобода есть свобода выбора между добром и злом, что человек, который бы не выбирал между добром и злом, был бы автоматом добра, что тот, кто, познавши добро и зло, вернулся бы к добру, имеет бесконечное преимущество пред невинным человеком, этой разницы не познавшим, — и все это слышали от проникновенных, глубоких, мудрых людей, — как истины, открываемые нам высшим разумом, как истины, прорвавшиеся из иных миров. Но это не истины из иных миров — а кантовские синтетические суждения a priori, являющиеся необходимым условием разумного мышления. Несотворенная свобода — есть фикция, уверенность, что познавший разницу между добром и злом имеет «преимущества», имеет больше «опыта», чем человек райского неведения и т. д. — все это — навязчивые идеи, связанные с плодами запретного дерева. Свободы, как и Ничто, властно решающего наши судьбы — нет и никогда не было, а был создан свободный человек Творцом и его свобода в том именно и заключалась, что он не имел нужды ни в знании, ни в различении между добром и злом. Райское неведение отнюдь не беднее, чем ведение падшего человека. Оно качественно иное и бесконечно богаче и содержательнее всех наших знаний: кой-кто (напр. Достоевский в «Сне смешного человека») умел эту тайну подглядеть и даже рассказать о ней. Начало всякого знания — страх. Когда человек, прежде, чем обратиться к Богу, начинает допрашивать: а какой это Бог и соответствует ли Он тем высоким представлениям о верховном существе, которые я себе составил, — он повторяет вновь преступление Адама; хотя он и воображает, что таким образом он осуществляет свою свободу. Он проверяет Бога тем «знанием», которое ему принесли плоды с запретного дерева, не подозревая даже, что его страх, что все его опасения знаменуют собой потерю свободы: свободный человек не боится, ничего не боится, свободный человек не спрашивает, не оглядывается — оттого его отношение к Богу выражается не в знании, а в вере. Вера и есть та свобода, которую Творец вдохнул в человека вместе с жизнью. И экзистенциальная философия — в противоположность умозрительной, уже не ищет знания и не видит в знании последний и единственный путь к истине: для нее само знание превращается в проблему, становится проблематическим. И в тот момент, когда оно становится проблематическим, оно теряет свою власть над человеком: в силу Абсурда бедный юноша добился руки царевны, Иову были возвращены его дети, Регина Ольсен досталась Киргегарду. Для Бога нет ничего невозможного: и истины, и действительность в Его руках. Судьбы человеческие решаются на весах Иова, а не на весах умозрения.
IV
Я сказал, что в своей последней книге Бердяев в идее «богочеловечества» усиленнее, чем в предыдущих, подчеркивает момент человечности и что это есть «новое» в его эволюции. Но загадочным образом, в такой же, если не в большей степени, он выдвигает в этой книге экзистенциальную философию, несмотря на все свои выпады против Киргегарда и Ницше, которым он настойчиво противоставляет немецких мистиков — для них же всякая похвала ему кажется недостаточной. «Вечной правдой звучит голос пророка: не носите больше даров тщетных мне. Научитесь делать добро, ищите правду, защищайте сироту, вступайтесь за вдову. И так же звучит голос самого Христа». Или: «Евангелие погружено в юдаистическую человеческую атмосферу… Иисус Христос совсем не уходит от мира множественного. Он не отрешается от грешного мира… Он жил среди людей, среди мытарей и грешников, посещал пиры» и т. д. Бердяев мог бы припомнить и то, как Иисус лечил больных, кормил голодных, возвращал зрение слепым, воскрешал мертвых и т. д. Казалось бы, та глубокая человечность, которой одушевлены писания Бердяева, должна была направить внимание Бердяева на эту сторону деятельности Христа и что, ссылаясь, как Киргегард, на слова Иисуса «блажен, кто не соблазнится обо мне», он попытается в экзистенциальной философии хоть до некоторой степени осуществить идею: «для Бога нет ничего невозможного». Но на это Бердяев решиться не может. Традиционная философия (или, как говорят, philosophia perennis