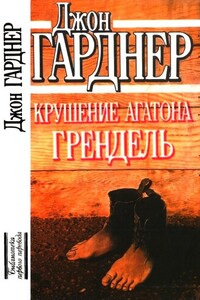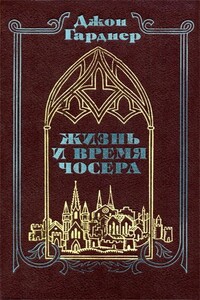Южный ветер дул, не унимаясь, но дождь пронесло дальше. Луна в облаках над головой вырисовывала серебром свирепые рожи, сияли редкие холодные звезды, точно очи диких коней, и во все стороны, куда ни глянь, бежали пляшущие белоголовые волны. Отверстие люка, сквозь который я выполз, осветилось и тут же снова померкло: человек с фонарем прошел дальше. Я облегченно, но все еще осторожно, вздохнул. Это было как игра: один человек против всей вселенной, вроде моей увеселительной прогулки на яхте «Независимость». И на этот раз тоже игра кончилась неожиданно. Люк, через который я выполз, осветился опять, но теперь не померк, а светился все ярче. Человек с фонарем торопливо поднимался по трапу. Когда голова его показалась над палубой, я уже распростерся плашмя за шпилем. Человек кричал что-то. Движения его и голос производили впечатление механических. Вольф его звали, как я узнал впоследствии. Второй помощник. Ответный крик вахтенного донесся с капитанского мостика. Еще один — с кормы. «Он исчез, сэр!» «Все наверх!» И как ни бушевал ветер, судно развернулось бортом к бешеной волне, обрасопленные реи заскрежетали, и по палубе вдруг засновали матросы с раскачивающимися фонарями в руках, свет их алмазами засверкал на волнах, и воздух, наполненный солеными брызгами, задрожал от их пронзительных возгласов.
В этом оглушительном гомоне невозможно было услышать то, что я тем не менее, казалось мне, услышал, — что, по всем законам и традициям, и прежде всего предрассудкам морской жизни, я не мог услышать: женский голос. Я похолодел; я ощутил невыразимый страх, как жертва падучей болезни, трепещущая перед началом очередного припадка. То был голос, какой можно услышать в пансионе для благородных девиц или, скажем, в женском монастыре. Надо мной и вокруг высился серый нагой китобоец, профессиональный убийца, прозаическое орудие труда, раскачивающееся на ошалелых волнах; на палубе внизу и на мостике вверху суетились и кричали мужчины с фонарями в руках. И тем не менее ясно, как день: я его слышал — голос благовоспитанной юной девицы. Кто-то ей ответил приглушенным, может быть, даже пьяным басом; до меня долетело имя: Августа. Я затаил дыхание, стараясь услышать, что еще произнесет женский голос. Он пронзил все мое существо, волшебный, магический, неземной. (Точно так же годы спустя в южном Иллинойсе меня потрясло пение женщины в поле: время магически замерло, ожидая, что вот-вот разверзнутся небеса. Бывают такие моменты, но тогда впечатление было довольно сильное.)
Между тем из каюты поспешно вышел капитан, качаясь, ухватился за поручень, словно был пьян или смертельно болен, и мерцающим взором ощупал палубу с носа до самого шпиля. Я попятился глубже в тень. Где раньше ничего не было, теперь я на что-то наткнулся. Взглянул вверх. Надо мной твердо, как колокольня, белея продетой в носу костью, стоял босиком чернокожий гарпунщик — высотой, казалось, в тысячу футов и широкоплечий, как гранитная скала. Гарпун мирно, точно дорожный посох, покоился в его унизанной перстнями и браслетами руке, словно бы я, не будучи китом, не заслуживал применения его искусства. Я пискнул — мышь под тенью парящего орла. Гарпунщик обнажил огромные белые зубы, издал короткий смешок, подобный шакальему кашлю на сирийском берегу, и, опустив руку, мягко сомкнул пальцы на моем локте.
VII
— Это имеет отношение к обману? — любопытствует гость.
— Да, сэр. Вот именно, к обману.
Ангел улыбается, вытаскивает и набивает трубку. Он задумчиво смотрит в окно, крылья его поникли, рука рассеянно шлепает по карманам в поисках серных палочек.
VIII
После этого меня держали под замком — и душу мою и тело — как опасного маньяка, но я был свободнее, чем они воображали. Они ни слова не пожелали мне сказать ни о неграх в трюме, ни о той, кому мог принадлежать женский голос. Когда я спрашивал об этом первого помощника мистера Ланселота — мне сам первый помощник приносил пищу, — лицо его принимало испуганное выражение, словно он в присутствии бесноватого опасался за собственную жизнь. Но прямо он никогда не отрицал, что я видел, что видел и слышал, что слышал. Он виновато, по-лошадиному клонил голову и втягивал шею в плечи, будто слышал позади себя шаги в темном переулке, — казалось, сейчас оглянется через плечо, и ворчал себе под нос: «Где это слыхано, чтобы на китобойце были черные рабы?» — и усмехался, а сам вдруг пристально взглядывал на меня, словно ждал на свой вопрос ответа. Что бы все это ни означало, ясно было, что я на этом судне в меньшей мере узник, чем он, и я понимающе ухмылялся. «Ешь-ка вот ужин», — говорил он затем. А потом он проверял на мне повязку и уходил, стараясь не задерживаться на лишнюю минуту. Я видел, что его мне нечего опасаться, хотя всякий раз, уходя, он не упускал из виду запереть за собой дверь. Был он высок ростом, грудь широкая, как комод, и выпуклые мускулы, как у статуи, но; коричневое, обветренное лицо его у светло-голубых глаз разрезали две глубокие трещины-складки и две смешинки по краям широкого, тонкогубого рта. Он не был рожден для многодумных размышлений. Увидь вы его дома в Нантакете, в тесном черном выходном костюме, слушающим проповедь в методистской церкви — ладони и стопы огромные, шея длинная-длинная, а на ней — маленькая головка, будто воронье гнездо на топе мачты, — вы бы сразу мысленно перенесли его туда, где его настоящее место: к рулевому веслу на корме вельбота, где он будет орать на гребцов, шутить, подзадоривать их, иногда посылая святотатственные проклятья и безумные угрозы самому киту. Это было существо, предназначенное для того, чтобы ломать спину в многотрудных приключениях, а потом рассказывать о них своей многочисленной здоровой благочестивой семье; но что-то пошло не туда при осуществлении первоначального замысла. Какая-то забота, потяжелее китов, заставила его задуматься. Иной раз, подняв глаза от тарелки с бобами, я видел, что он, задумавшись, вперил взгляд в переборку, как, бывает, смотрят куда-то за горизонт. На плечах этого человека лежала тяжкая ответственность, и чем дольше я его наблюдал, тем увереннее становился в своем природном преимуществе. У меня созрел план.