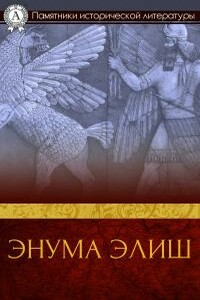Дениз молча покачала головой.
— Хорошо, если бы мы к вечеру дошли до этих гор. Долина должна быть крошечной, иначе мы ощущали бы ветер.
Ее рука машинально поднялась, пальцы зашевелились, словно ветер был чем-то осязаемым, что можно поймать. Рука упала.
Ах ты черт, сентиментальность проклятая, дешевое рыцарство. Язык не поворачивается сказать: «Ну пошли!» А ведь надо, надо! Не ждать же здесь, пока с тобой выкинут. очередной фокус.
— Дениз… — это почти виновато.
— А?
— Идем, Дениз.
Она тихонечко вздохнула и поднялась.
Они так и шли до самой темноты — сперва Дениз медленно брела впереди, потом виновато оглядывалась, и Артем брал ее на руки. Потом им попадалась поляна, они лежали рядом и глядели друг на друга, потому что вверху было неподвижное, словно застывшее в какой-то момент падения небо, на которое смотреть было страшно.
Потом они подымались и шли дальше.
Темнота наступила внезапно, даже слишком внезапно, как будто кто-то ввел на полную катушку громадный реостат. Некоторое время они шли в темноте, но больше спасительных полян не появлялось.
— Ничего, — сказал Артем. — И это не самое страшное. Песок на дорожке совсем теплый.
Он стал расстегивать куртку, и тут впереди блеснул огонек. Они не побежали, и не потому, что Дениз едва передвигала ноги, — в этот вечер у них еще сохранилась какая-то осторожность. Они бесшумно крались вперед, пока огонь не стал освещенным окном; цепляясь за перила крошечного палисадничка, Артем приподнялся и, прячась за косяком, заглянул внутрь.
Мятая тахта с клетчатым одеялом, пустая селедочница на стуле посреди комнаты, возле порога на полу — черный свитер, все-таки забытый Дениз.
Он оцепенело рассматривал все это, не понимая, не желая понять, что это тот самый дом, от которого они сегодня утром ушли не оглядываясь, ушли прямо, оставляя его за спиной.
— Кто там? — робко спросила Дениз из-за спины.
Если бы там кто-нибудь был!
— Никого, — сказал Артем, пропуская ее вперед. — Можешь никого не бояться.
Никого, только тот же дом, пустой, ожидающий их возвращения. Как капкан. Дверь за спиной захлопнулась, и Артем невольно протянул назад руку — попробовать, откроется ли она еще раз. Дверь мягко подалась. Вот, значит, как — капкан, из которого можно выйти. Сегодня утром они уже попробовали это сделать. Ну что же — завтра попробуем еще раз.
— Ты только не засыпай, — сказал он Дениз, — я сейчас сварю кофе, а то завтра ты и вовсе с ног свалишься.
Но она уже лежала на тахте, совсем как вчера, словно она не сама легла, а ее бросили, как бросают платье. Он повернулся и на цыпочках, чтоб не разбудить, пошел на кухню. И там все было так, как вчера. Батон в полиэтиленовом мешке, груда консервных банок на дне холодильника. Даже абрикосы. Может, он их не открывал? Да нет, было такое дело, еще и нож… Нож лежал на столе. Перочинный нож за два рубля пятнадцать копеек. Тот самый. А кофе? И кофе в жестянке было ровно столько же, сколько вчера вечером.
Есть почему-то расхотелось.
Он вернулся в комнату, осторожно подвинул Дениз к стенке и улегся рядом. Она приоткрыла глаза.
— Между прочим, — сказал он шепотом, — мы действительно в райском саду. И холодильник в роли скатерти-самобранки.
Она чуть поморщилась — досадливо и безразлично.
— Нет… не сад, — пробормотала она, засыпая. — В саду цветы… А в райском… des pommiers, яблони…
Артем шумно фыркнул и тут же скосил глаза. Нет, ничего, не проснулась. Усмехнулся уже беззвучно — господин учитель, мне бы ваши заботы. Яблонь ей не хватает. Тоже мне Ева. А Ева ли? Он всмотрелся в ее лицо. На кого она похожа? Каждая отдельная черта напоминает что-то, порой вполне определенное — плечи Натальи Гончаровой, волосы Екатерины Второй, подбородок Одри Хепберн… А сама-то — от горшка два вершка. Десятиклашка. Хотя — Елене Прекрасной, когда ее Парис умыкал, было, говорят, десять лет. Джульетте — тринадцать. Ева тоже вряд ли была совершеннолетней, и уж тем более — красавицей. Вон у Жана Эффеля — первозданная дура, которой только дай дорваться до райской антоновки. Не с чего ей было стать такой вот, как эта. Господь бог, когда ее творил, не располагал никакими эталонами, а о промышленной эстетике он и представления не имел по серости своей. Кустарь-одиночка.