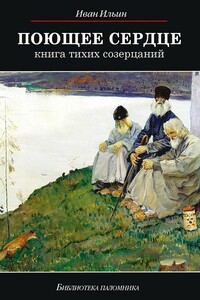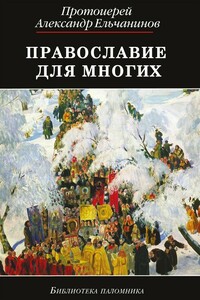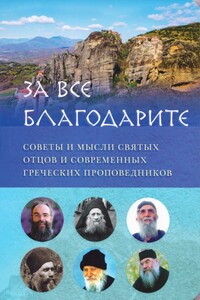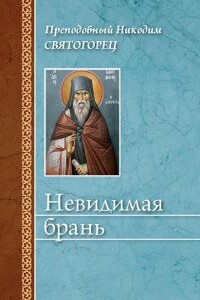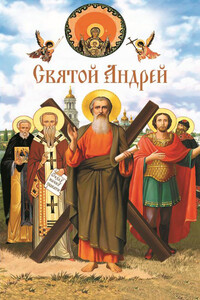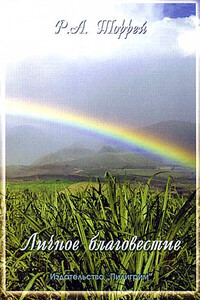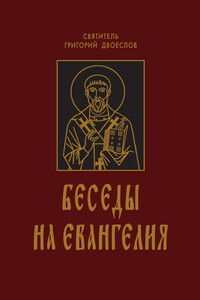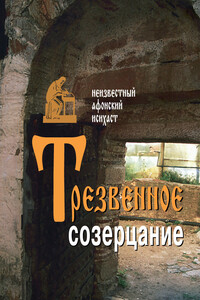У Иова написано, что могучий лев погиб оттого, что нечего было ему есть: могучий лев[2] погибает без добычи (Иов 4,11). Этот муравьиный лев изображает диавола, всегдашнего нашего врага, который бежит от человека, не дающего ему чем питаться через отвержение и подавление всех страстных движений, возбуждаемых впечатлениями внешних наших чувств. На муравьиного льва же он похож тем, как говорит инок некто Иовий в библиотеке Фотия Патриарха, что всегда начинает губить человека через ввержение его сперва в малые грехи, малые, как муравей, а потом, когда приучит его к таким малым грехам, ввергает уже и в большие; и тем еще похож он на него, что вначале кажется бессильным и малым, как муравей, а потом является сильным великаном, как большой лев.
Глава двадцать пятая
О том, как управлять языком
Самая великая лежит на нас нужда управлять как должно своим языком и обуздывать его. Двигатель языка – сердце; чем полно сердце, то изливается через язык. Но обратно излившееся через язык чувство сердца укрепляется и укореняется в сердце. Потому язык – один из немалых деятелей в образовании нашего нрава.
Добрые чувства молчаливы. Излияния через слова ищут более чувства эгоистические, чтобы высказать то, что льстит нашему самолюбию и что может показать нас, как нам кажется, с лучшей стороны. Многословие чаще происходит от некоего горделивого самомнения, по которому, воображая, что мы слишком многосведущи и что наше мнение о предмете речи самое удовлетворительное, испытываем неудержимое понуждение высказаться и обильной речью с многократными повторениями напечатлеть то же мнение и в сердцах других, навязываясь таким образом им в непрошенные учителя и мечтая иметь иной раз учениками тех, кто понимает дело гораздо лучше учителя.
Сказанное, впрочем, относится к таким случаям, когда предметы речи бывают более или менее стоящими внимания. Наибольшей же частью многоречие равнозначно пусторечию; и в таком случае нет слов к полному изображению зол, происходящих от этого дурного навыка. И вообще, многословие отворяет двери души, через которые тотчас выходит сердечная теплота благоговеинства; тем более это делает пустословие. Многословие отвлекает внимание от себя, и в сердце, таким образом не соблюдаемое, начинают прокрадываться обычные страстные сочувствия и желания, и иногда с таким успехом, что когда кончится пусторечие, в сердце окажется не только соизволение, но и решение на страстные дела. Пусторечие – дверь к осуждению и клеветам, разносительница ложных вестей и мнений, сеятельница разногласий и раздоров. Оно подавляет вкус к умственным трудам и почти всегда служит прикрытием отсутствия основательного познания. После многословия, когда пройдет чад самодовольства, всегда остается некое чувство тоскливости и разленения. Не свидетельство ли это о том, что душа и нехотя сознает тогда себя окраденной?
Апостол Иаков, желая показать, как трудно говорливому удержаться от чего-либо неполезного, грешного и вредного, сказал, что удержание языка в должных границах – это достояние только совершенных мужей: кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело (Иак. 3, 2). Язык, как скоро начнет говорить в свое удовольствие, то бежит в речи, как разнузданный конь, и выбалтывает не только хорошее и подобающее, но и нехорошее и зловредное. Почему апостол и называет его неудержимым злом, исполненным смертоносного яда (см. Иак. 3,8). Согласно с ним и Соломон еще в древности сказал: при многословии не миновать греха (Притч. 10,19). И скажем с Екклезиастом, вообще, что кто много говорит, тот обличает свое безумие; ибо обычно только глупый наговорит много (Еккл. 10,14).
Не распространяйся в долгих собеседованиях с тем, кто слушает тебя не с добрым сердцем, чтобы, докучив ему, не сделать себя для него мерзостным, как написано: многоречивый опротивеет (Сир. 20, 8). Остерегайся говорить сурово и высокотонно, потому что то и другое крайне ненавистно и заставляет подозревать, что ты очень суетен и слишком много о себе думаешь. Никогда не говори о себе самом, о своих делах или о своих родных, исключая случаи, когда это необходимо, но и при этом говори как можешь короче и скорее. Когда видишь, что другие говорят о себе с излишком, понудь себя не подражать им, хотя бы слова их казались смиренными и самоукорительными. Что же касается твоего ближнего и его дел, то говорить не отказывайся, но всегда говори как можешь короче даже и там и тогда, где и когда это требовалось бы для блага его.