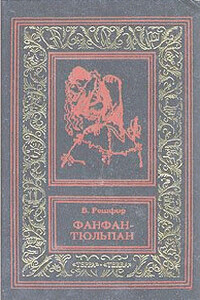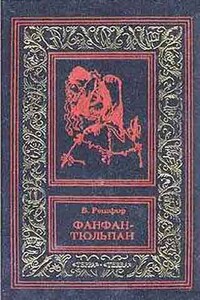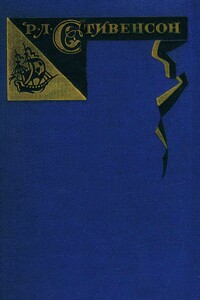- Ах! Мсье, я сам не знаю толком... - Затем, вспомнив точное название, - Да, это называется "Трубка Мира".
- Вот! - воскликнул маркиз. - Трубка Мира! - и возбужденно. - А почему я не могу с ними выкурить эту Трубку Мира?
- Честь имею доложить: они скорее вас выкурят.
Так спорили они добрых два часа. Почти аллегорически здоровая народная сметка, идущая от Тюльпана, не исключавшего риска, но желающего соразмерить последствия, противостояла мистическим мечтам аристократа, без труда прошедшего по жизни, обладавшего одним из самых больших состояний и принадлежавшего к массонству, наиболее хитрому "Свету Века", затуманившему мысли, утверждающему, что Человек - прекрасная натура, особенно Добрый Дикарь, в результате чего маркиз решил, что имеет возможность, прийдя безоружным, неся только слово истины, получить голоса ирокезов, кейгазов, могавков и сенека. Он вполне убедил себя подобными глупостями, но не нашел понимания у Тюльпана, утверждавшего, что все закончится потерей прически, или, скорее, они облысеют ещё прежде, чем все закончится. Но тот никак не хотел бы сойти за большего дурака, чем его шеф, а наглость затеи, надо сказать, его волновала.
Вот чем все кончилось: с полночным боем часов две тени пешком пересекли пределы бивуака, оставшись незамеченными часовыми, хоть и стоящими на ногах, но спящими, опираясь на ружья, чтобы преодолеть двадцать километров лесов и песчаных равнин, отделявших их от индейцев.
Один фон Штаубен, которого без четверти двенадцать вызвал Лафайет, был в курсе. Ему был отдан приказ трубить сбор через три дня, если они не вернуться. "- Трубить к бою," - заметил Тюльпан, которому не улыбались два трупа, оставшихся без волос - но это замечание не пошатнуло идеализм Лафайета. Фон Штаубен промолчал. Типичный прусак, автоматически регистрирующий приказы в своем мозгу, он был слишком пьян, в эту судьбоносную ночь, чтобы иметь свое мнение.
* * *
День только начинался, когда воин Покатас из племени кэйгазов появился из леса с быстротой летящей стрелы, пересек широко развернутый лагерь союза индейцев - только пятки сверкали и направился, задыхаясь и обливаясь потом, к внушительному вигваму, более вместительному, во всяком случае, чем сотни других, пооставленных вокруг, перед некоторыми из которых женщины уже готовили утреннюю пищу. Одна из этих женщин, жена воина Покатаса, приветствовала его, но он не слышал или не желал услышать, продолжая свой бег, пока не достиг большого вигвама. Там он остановился на мгновение, чтобы перевести дух, переспросил сам себя, не привиделось ли ему, - зрелище было слишком ошеломляющим - и наконец решился поднять шкуру бизона, служившую дверью. При его появлении все замолчали. Главы пяти племен обсуждали там детали и распорядок празднования наступающего дня, ибо в Союз принималось новое племя - это и было причиной собрания.
Покатас отчитался с наибольшей точностью, немного трепеща от мысли, что тот или иной вождь - Большая Борзая, например, из небольшого племени могавк, уважаемый повсеместно за его язвительность - придя сейчас глотнуть английского рома, высмеет его. И вполне возможно, что Большая Борзая, единственный великан индейского народа, но бегающий как никто быстро, и осмеял бы его, не долети до них поднявшийся вдруг шум. Выйдя, вожди тотчас увидели причину. Все те же двое, о которых Покатас только говорил - двое белых. Два белых человека, и не англичане, спокойно шли по лагерю. Нет нужды говорить, что в мгновение ока все высыпали из вигвамов наружу, предупрежденные криками первых зрителей, и комментируя на все лады. Но преобладало восхищение, либо удивление. Надо сказать, что Лафайет и Тюльпан (а это могли быть только они) сделали все чтобы не пройти незамеченными, а особенно, как сказал генерал-майор, чтобы оказать известной торжественностью своего появления сильное впечатление на народ, чувствительный к благопристойности. Вот почему, достав из своего неистощимого палисандрового сундучка, он облачился в форму полковника французской армии, достаточно убогую, по правде говоря, ибо пуговицы, разъеденные сыростью, были заменены на другие. Теперь в бледно-голубом сюртуке, открывавшем рубашку с жабо, белых лосинах, мягких сапогах, также белых, поднятых выше колен, золотых эполетах и треуголке, в которую он воткнул перо, горделиво шагая, он выглядел писаным красавцем, что было замечено женой воина Пакатаса, и сказано совсем тихо своей же соседке, жене воина Иивла.