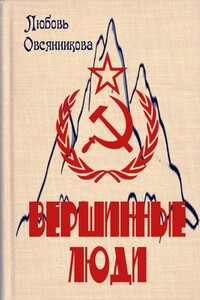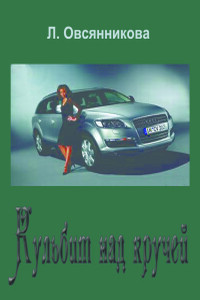* * *
Я часто думаю о Славгородских спасателях Бараненко Якове Алексеевиче и Вернигоре Илье Григорьевиче и удивляюсь, где они брали силу на то, чтобы сознательно, на протяжении многих лет, в постоянном страхе, побеждая инстинкт самосохранения, терпеливо спасать людей. И знать, что им за это ничем не воздастся, не будет легенд и мифов, памятников и мемориальных досок.
Что ими руководило? Ведь любое самопожертвование рассчитывает на что-то: самопожертвование любви стремится увековечиться в своих наследниках, самопожертвование творчества — в произведениях искусства. А самопожертвование добра, бескорыстия, преданного служения народу? Это — высшее самопожертвование, ибо сверхъестественное, сверхчеловеческое, божеское.
Итак, помним их! Назовем еще раз поименно:
Бараненко Яков Алексеевич Вернигора Илья Григорьевич
Пусть проснется в нас великая благодарность им за нашу состоявшуюся жизнь. Да воздастся им за это в иных мирах, где они теперь пребывают!
Часть 4. Нечеткие горизонты
Неожиданно для себя Юрий Артемов, степняк, оказался на море. Его еще долго преследовали воспоминания о Славгороде, о друзьях и знакомых, оставивших в нем незабываемый след, повлиявших на его судьбу и мировоззрение. Но пришло время и события новой жизни тоже утвердились в кладовой впечатлений.
Он хорошо помнил, как впервые свободно вышел в Севастополь. Тогда стояла середина октября, пора, которая раньше часто навевала на него грустные настроения, желание побыть в одиночестве. Он спустился на пристань, где едва слышно плескалось обманчиво-покорное море. Тихо и пусто было в гавани, охваченной крепкой рукой каменного причала, из которого вытекал и убегал прочь густой и тусклый свет осеннего дня. От нагретой за день гальки еще струилось тепло, но оно уже было слабым. Низко над водой пролетел баклан, дважды ударил крыльями о морскую гладь и поднялся выше. Юра провел его глазами, а потом посмотрел на небо. Там появился полный месяц, рыхлый и бледный, заблестела вечерняя звезда. Как хорошо и интересно было наблюдать те вечерние сумерки на море, где множество неповторимых мелочей, отличных от степных, рождали ощущение сложности, разнообразия мира, в котором он живет. И он ощущал себя затерянным в его беспредельности.
Все было так и не так, как он знал. Дальше, в ночь, вечерняя звезда из золотой стала серебряной, луна уменьшилась в размере, а ее контуры стали ровнее и четче. Такое он наблюдал и дома. Но вот с моря дохнула грозная сила, будто там проснулся и заворочался какой-то живой гигант, но чужой и своенравный, враждебный всему на земле. Дунул ветерок, забились о берег почерневшие волны. Белая пена зашипела, извиваясь и высвобождаясь, будто ее держала в плену невидимая грань между водой и сушей. Юра почувствовал беспокойство, еще что-то незнакомое и грустно тревожное. Нет, в степи вечер не настораживает людей дыханием мистических существ, не страшит бездонными красками, не шипит как змея, не корчится в борьбе земли и воды — двух стихий, таких разных по характеру. В степи он ласкает, успокаивает кротостью.
В другой раз он наблюдал последние дни позднего бабьего лета. Море ненадолго восстановило летний цвет, но уже лежало перед Юрием хмурым, разгневанным. Не искрилось, не играло красками, не грелось беззаботно в бархатно-ласковых лучах солнца. Оно настраивалось на долгий холод, и раздражалось, сдержанно свирепствовало, и над землей нависало лишь его тяжелое настроение. Море не любило зимы, и эта нелюбовь портила его характер. Как раз начинался прилив, и оно хищно надвигалось на берег, безразлично к тому, что в его наступлении крылась опасность для хрупкого земного мира. Куда девалось его кроткое мурлыканье, мягкое трение о бока планеты, когда оно казалось смирным и прирученным созданием!
Далеко на горизонте оно стало темно-синим и оттуда накатывало на притихшие окрестности свои мощь и злость. Будто чешуей, его поверхность укрывалась зыбью, казалось, это бралась судорогой его хрупкая кожа — от капризов и недовольства. Над ним висело небо, отражающееся в нем как в зеркале, — глубокое, синее, студеное. Иногда там появлялись нагромождения туч, тогда на воду падали темные пятна теней, и море дурнело от этого. Казалось, оно теряло целостность, монолитность и превращалось в хаотичное сплетение первичных диких субстанций.