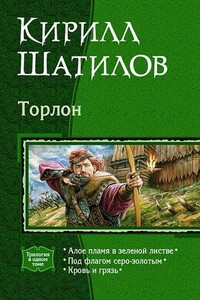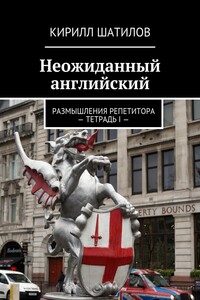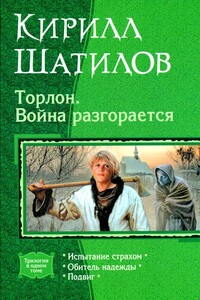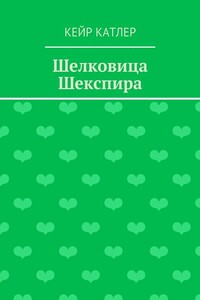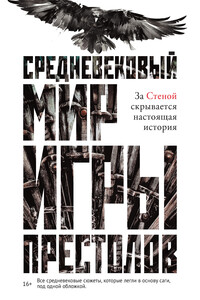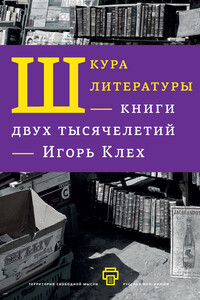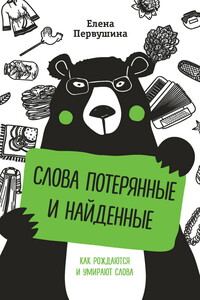Неожиданный английский. Размышления репетитора – Тетрадь III - страница 46
Как бы то ни было, латинское вторжение оставило в нашем языке немало своеобразных следов. К примеру, именно здесь коренится мысль о том, что «большие слова» более изысканы. В большинстве мировых языков нет такого поклонения перед длинными словами как перед более «высокими» или какими-то особенными. На суахили фраза типа Tumtazame mbwa atakavyofanya просто означает «Посмотрим, что будет делать собака». Если концепция формальности требовала бы ещё более длинных слов, тогда разговор на суахили в свою очередь потребовал бы сверхчеловеческих лёгких и контроля дыхания. Английская идея о том, что большие слова круче, появилась только потому, что французские и особенно латинские слова длиннее древнеанглийских – end короче conclusion, walk короче ambulate. Многочисленные заимствования из чужих словарей также отчасти объясняют тот поразительный факт, что этимологию английских слов можно проследить до огромного количества различных источников – зачастую их несколько в рамках одного предложения. Сама мысль о том, что этимология – это всё равно что шведский стол для полиглота, где за каждым словом стоит поразительная история миграции и обмена – представляется нам совершенно повседневной. Однако корни большинства языков гораздо скучнее. Типичное слово происходит от, ну, скажем так, более ранней версии того же слова, и на этом точка. Изучение этимологии, допустим, носителям арабского языка, представляется малоинтересной. Этот дурацкий набор слов во многом определяет то, что не существует даже близко другого такого языка, как английский, который было бы так легко учить.
Честно говоря, смешение словарного запаса в мировых масштабах не является таким уж необычным явлением, однако гибридность английского далеко опередила большинство языков Европы. Если взять предыдущее предложение – To be fair, mongrel vocabularies are hardly uncommon worldwide, but English’s hybridity is high on the scale compared with most European languages – в качестве примера, то оно представляет собой вереницу слов из древнеанглийского, древнескандинавского, французского и латыни. Другим элементом является греческий: в параллельной вселенной мы называли бы фотографии lightwriting (светопись). В соответствии с модой, достигшей своего пика в XIX веке, определённым вещам надлежало давать греческие прозвища. Отсюда наши неподдающиеся расшифровке термины, обозначающие химические элементы: почему мы не можем называть monosodium glutamate каким-нибудь one-salt gluten acid (односолевая кислота клейковины)? Задаваться подобным вопросом уже поздно. Но именно этот дурацкий набор слов и есть одна из тех вещей, которые ставят английский настолько далеко от его ближайших лингвистических соседей.
Наконец, благодаря этому брандспойту мы, носители английского, также вынуждены сражаться с двумя разными способами расставлять ударения. Пристегните суффикс к слову wonder, и вы получите wonderful. Однако добавьте окончание к слову modern, и оно потащит ударение за собой: MO-dern, но mo-DERN-ity, а не MO-dern-ity. Этого не происходит с WON-der и WON-der-ful, или с CHEER-y and CHEER-i-ly. Однако запросто происходит с PER-sonal и person-AL-ity. В чём разница? Дело в том, что —ful и —lу окончания германские, тогда как -ity пришло из французского. Французские и латинские окончания подтягивают ударения к себе – TEM-pest, tem-PEST-uous – тогда как германские оставляют ударение в покое. Подобные вещи никто не замечает, однако это один из тех моментов, которые делают наш «простой» язык не таким уж и простым.
Так что история английского с того для 1600 лет назад, когда он достиг британских берегов, это история того, как язык становится восхитительно странным. За это время с ним произошло гораздо больше, чем с любым из его родственников, чем с большинством языков на земле. Вот вам древнескандинавский X века, первые строки рассказа из поэтической Эдды, названного «Баллада о Трюме». Строки эти означают «Зол был Винг-Тор/он проснулся» в смысле «он был зол, когда проснулся». На древнескандинавском это звучало: