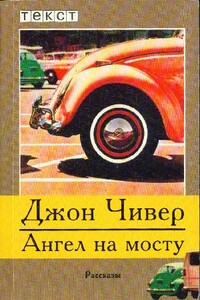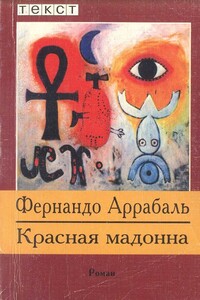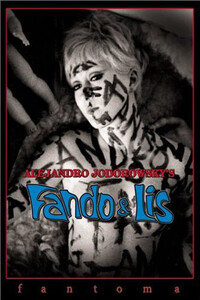За эти приснопамятные и стратегические пять лет, в течение которых я не мог обратиться к медицине, не дав крена, мне стало ясно, что только неумение жить может привести к смерти. Пользуясь моим отсутствием, коллеги забастовали, готовые подвергнуть общество величайшей опасности, ибо требовали они увеличения количества врачей. Правительство, охваченное самоубийственным ажиотажем, уступило столь злобному притязанию. К счастью, за первые четыре месяца забастовки средняя продолжительность жизни на порядок выросла, и, эллиптически, число умерших пошло на убыль, что всегда рассматривалось как признак доброго здоровья!
Боже упаси кого-нибудь подумать, что я, впав в жеребячью вульгарность, использую свой роман как Троянского коня, – хотя именно это было в свое время сделано Илиадой и не повлекло ни обвинения со стороны газетчиков в плагиате, ни стрельбы из пушки по воробьям. Нет, я взял в руки перо не для того, чтобы высказать, что я думаю о своих коллегах, – дело столь же пакостное, сколь и отвратительное... Поэтому они спокойно могут облачаться в белые халаты для пущего разнообразия.
Когда председатель совета Гильдии стал уламывать меня усыпить Тео при помощи лекарств, я закричал, не повышая голоса: «Унтер, да вы слегка спятили». Он угостил меня всем известной байкой о преступлениях Тео, которая мне по-настоящему легла на душу: ну прямо-таки рассказ Эдгара Аллана Дойла. Мне не нравились разговоры о веревке в доме повешенного, хотя в ту пору мои коллеги, убивая, еще не пользовались веревками. Он настаивал allegro barbaro.{20} Надо было видеть, с каким стальным апломбом он сноровисто надсаживал глотку. Этот председатель Гильдии врачей для пущей неосмотрительности позволял себе незапамятную роскошь руководить, сверх того и без передышки, больницей на семь тысяч койко-мест, не считая каталажки! Больницей, в которой пациенты сообща и здраво умирали как мухи в количественном и качественном выражении! В таких обстоятельствах, да еще с учетом прилива, имел ли право кладбищенский поставщик, страдающий стахановским синдромом – я имею в виду председателя Гильдии врачей, – катить бочку на Тео за его невинные грешки? В то время как он сам широкомасштабно и как последняя скотина... Ладно, молчу... Не буду ставить дражайшим коллегам в вину, хоть это мое право (и долг блюстителя рода человеческого), предумышленное убийство, смертоносные методы терапий вкупе с нарушением правил дорожного движения, неправедные диагнозы, лишающие трудоспособности операции и главное – запах тлена, ибо дезодорантом для подмышек они не пользуются.
А всем злопыхателям, обладающим отменной: памятью, буде они предположат за моей обличительной яростью личную обиду памфлетиста, я скажу, что пять лет отлучения пронеслись с быстротой пятилетки в четыре года, не оставив во мне никаких следов, кроме душевных ран, которых следовало ожидать. Не держа зла на сердце, я вернулся в больницу имени Гиппократа с намерением смыть оскорбление, которое немыслимо было мне нанести. Я сказал себе, что, в конце концов и из конца в конец, «при прочих равных условиях врач – всего лишь такой же человек, как все»: злодеяния, которые он творит, совершаются не только потому, что он должен есть триста шестьдесят пять дней в году – а в високосные годы триста шестьдесят шесть, – но и потому, что ему необходим вдобавок оплаченный отпуск и все тридцать три удовольствия на лыжном курорте.
Жизнь Тео я мог бы изложить в одной фразе, литой, как архипелаги, из архисеребра, – вот почему я посвящаю ему так много нанизанных одна на другую глав. Он был столь же красивым, сколь и милым мальчуганом, однако достаточно скромным, чтобы никто не показывал на него пальцем на улице... кроме разве что его матери, которая боготворила сына даже в безлунные месяцы. Тот факт, что первое убийство он совершил на другой день после смерти матери, – такая же случайность, как присутствие утки в яблоках, и следствие удара, которым явилась эта кончина при его крутом характере, о чем свидетельствует имя.
Неотразимое очарование Тео порождалось его обаянием, с первого взгляда и без задней мысли, ибо был он домоседом и домушником. С тех пор как его покинула кормилица ради робкого солдатика, болезненная, но исполненная житейской мудрости гримаса исказила его лицо; она осталась с ним на всю жизнь, как чернила с каракатицей. С этой благоприобретенной гримасой он ни на миг не расставался, даже в час, когда хоронил в огороде своих товарищей по Корпусу