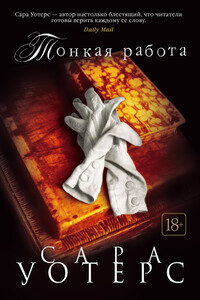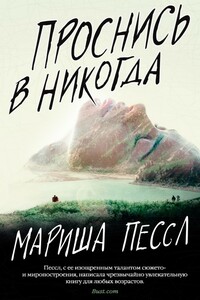Папа всегда говорил: человеку нужна очень веская причина, чтобы написать историю своей жизни, да еще и ожидать, что ее прочтут.
«Разве что тебя зовут, допустим, Моцарт, Матисс, Черчилль, Че Гевара или Бонд – Джеймс Бонд, – а иначе лучше не трать время даром. Если заняться нечем, лепи куличики из песка или играй в тихие настольные игры, потому что никто, кроме умиленно взирающей на тебя располневшей матушки, не заинтересуется подробностями твоего никчемного существования, которое, несомненно, закончится так же, как и началось, – придушенным писком».
При таких строго заданных условиях я всегда считала, что у меня веская причина появится хорошо если годам к семидесяти, вместе со старческой пигментацией, ревматизмом, блестящим остроумием и виллой в Авиньоне (где я смогу перепробовать 365 различных сыров). Еще у меня будет любовник, лет на двадцать младше, работающий в полях (не знаю в каких – главное, что в кудрявых и золотистых), и – если повезет – небольшая, но заслуженная слава в науке или философии. А вот поди ж ты: решение – да нет, необходимость сесть за стол и написать о своем детстве, а точнее, о том, как оно за один год расползлось по швам, словно старый свитер, обрушилась на меня значительно раньше, чем я предполагала.
Началось все с банальной бессонницы. Почти год прошел с тех пор, как я обнаружила мертвое тело Ханны. Думала, уже сумела стереть все следы той ночи в своем сознании – примерно как Генри Хиггинс упорными изнурительными тренировками истребил у Элизы Дулитл простонародный акцент.[1]
Я ошибалась.
Конец января – а я снова просыпаюсь посреди ночи. В общаге тихо, на потолке по углам притаились колючие тени. У меня нет никого и ничего, только стопка толстых самодовольных учебников вроде «Введения в астрофизику» и грустный черно-белый Джеймс Дин[2] молча смотрит на меня, приклеенный к двери скотчем. А я смотрю на него сквозь кляксы темноты и вижу в мельчайших подробностях мертвую Ханну Шнайдер.
Она висела в метре над землей, на ярко-оранжевом проводе. Язык вывалился изо рта – распухший, вишневого оттенка посудной мочалки. Глаза, похожие на два желудя, или две потускневшие монетки, или черные пуговицы от пальто, какие дети прилепляют на лицо снеговику, ничего не видели. А может, видели все – в том-то и ужас. Дж. Б. Тауэр написал, что в предсмертный миг человек «видит сразу все, что только существовало на свете» (непонятно, правда, откуда он это знал, ведь его «Бренность» написана в расцвете лет). А ее шнурки для ботинок… Про шнурки можно бы написать целый трактат. Они были карминно-красные и завязаны идеально симметрично, двойным узлом.
И все-таки я как неисправимая оптимистка (папа говорил: «Ван Мееры по природе своей идеалисты и приверженцы конструктивного свободомыслия») упрямо надеялась, что бессонница – явление преходящее, как увлечение «камушками-лапушками»