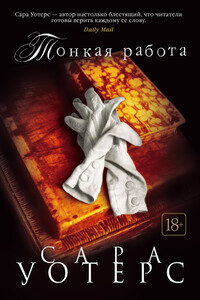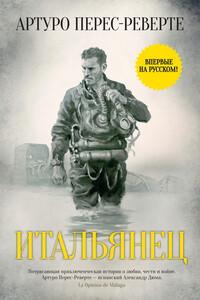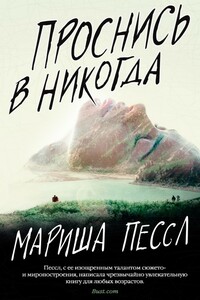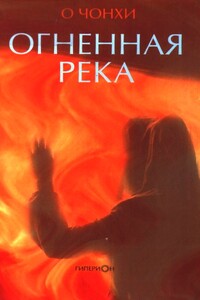Папа сказал:
– Я уже договорился, тебе ни с кем не нужно встречаться.
Снова я оказалась на больничной кровати за мятно-зеленой занавеской, запеленутая в байковые одеяла, точно мумия, стараясь скрюченной рукой донести до рта сэндвич с индейкой и шоколадное печеньице – Оранжевая Помада принесла их мне из буфета. Голова моя ощущалась как разноцветный воздушный шар из классического фильма «Вокруг света за восемьдесят дней». Я могла только рассматривать занавеску, жевать, глотать и прихлебывать кофе, который принесла Кудряшка по специальному папиному распоряжению («Синь любит кофе с обезжиренным молоком, без сахара. А мне черный»).
Смотрим, жуем, глотаем. Смотрим, жуем, глотаем. Папа сидел возле кровати.
– Ты скоро поправишься. Молодец у меня дочка, ничего не боится! Через час поедем домой, отдохнешь – будешь как новенькая.
Я понимала, что папа бодрым труменским голосом с кеннедиобразной улыбкой повторяет эти воодушевляющие фразы больше для себя, чем для меня. А я не волновалась – меня через капельницу накачали успокоительным, и я не очень понимала, почему он такой взвинченный. Объясняю: я ведь не сказала папе, что иду в поход. Наврала, будто проведу выходные в гостях у Джейд. Мне не хотелось его обманывать, особенно ввиду его нового подхода к отцовским обязанностям в духе «Макдональдс» (Мы всегда открыты и рады обслужить!), но папа презирал все виды активного отдыха: турпоходы, катание на лыжах, на горных велосипедах, на парапланах, а еще больше он презирал тех «скудоумных зануд», что ими увлекаются. У папы не было ни малейшей тяги к лесу, океану, горам и разреженному воздуху, о чем он весьма подробно рассказал в своей статье «Мир природы и человеческая гордыня», опубликованной в ныне забытом издании 1982 года «Здравомыслие-пресс».
Вот, например, четырнадцатый раздел, под названием «Комплекс громовержца»: «Человек в своем эгоцентризме стремится ощутить вкус бессмертия посредством физических свершений и очертя голову рискует жизнью, лишь бы испытать эгоистическое чувство „победы“. Чувство это ложно и недолговечно, ибо власть природы над человеком абсолютна. Будем откровенны: человеку не место в условиях на грани выживания, поскольку он слабее мухи. Только в труде, в работе, в строительстве и управлении человек обретает смысл жизни, и незачем одурманивать себя, словно наркотиком, карабкаясь на Эверест без кислородной маски и едва не погубив себя и несчастного проводника-шерпа, которому приходится тащить на себе незадачливого героя».
Вот из-за четырнадцатого раздела я и не сказала папе правду. Он бы ни за что меня не пустил. Я и сама не очень-то рвалась в этот поход, но я не хотела, чтобы все наши отправились туда без меня и пережили нечто крышесносное (не знала я, насколько это будет крышесносно).
– Я тобой горжусь! – сказал папа.
А я могла только просипеть:
– Пап…
Я кое-как дотянулась до его руки, и рука ответила на прикосновение, как чуткая мимоза, только наоборот – раскрылась мне навстречу.
– Все будет хорошо, мое облачко! Ухом не моргнешь, как поправишься!
– Глазом, – выдавила я.
– Глазом не моргнешь.
– Честно?
– Конечно!
Через час мой голос начал понемножку возвращаться. Новая медсестра, Суровый Взор (похищенная Белым Халатом с другого этажа, лишь бы умилостивить папу), измерила мне пульс и давление («В норме», – промолвила она и надменно удалилась).
Хотя мне было вполне уютно под яркими лампами, среди мирных больничных звуков вроде тех, что слышишь, когда плаваешь в море с аквалангом, постепенно в голове зашевелились воспоминания о вчерашнем. Попивая кофе, я вполуха слушала сердитое бурчание старичка по ту сторону занавески, приходящего в себя после приступа астмы («Что меня тут держат? Мне домой надо, собаку покормить». – «Мистер Эльфинстоун, еще всего полчасика»), и вдруг передо мной возникла Ханна – слава богу, не такая, какой я ее увидела ночью. Она просто сидела за столом у себя дома, слушала наши разговоры, курила, наклонив голову к плечу, потом безжалостно раздавила сигарету в тарелке из-под хлеба. Она при мне два раза так делала. Еще вдруг вспомнились подошвы ее босых ног – мелкая подробность, ее мало кто замечал: иногда они бывали совсем черные и потрескавшиеся, как асфальт.