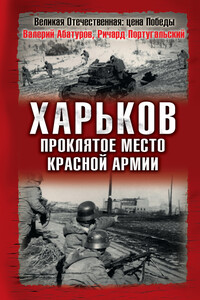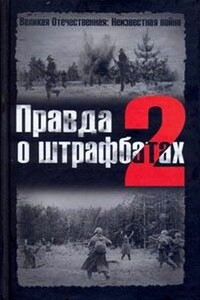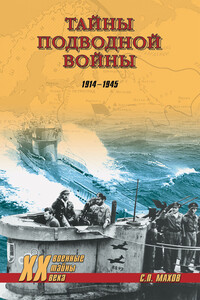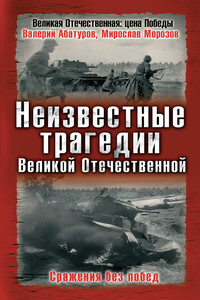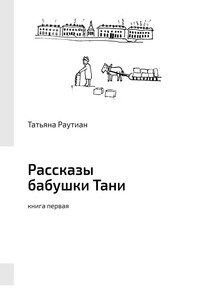Неизвестные трагедии Великой Отечественной. Сражения без побед - страница 50
Очевидцем последующих ударов по аэродрому стал замполит 6-й сад А.Г. Рытов, который сразу же после получения тревожных донесений вылетел туда из Риги. Буквально перед его взлетом офицер оперативного отдела принес последнюю шифровку из штаба ВВС округа, где в очередной раз подчеркивалось: «на провокации не поддаваться, одиночные немецкие самолеты не сбивать». Видимо, здесь, как и у моряков, свою роль сыграла плохая организация радиосвязи и слабая подготовка шифровальщиков, которые приводили к тому, что время прохождения шифрованных радиограмм нередко занимало до 8–9 часов.
«В Либаве я застал невеселую картину, – вспоминал Рытов. – Аэродром рябил воронками, некоторые самолеты еще продолжали тлеть. Над ангарами стлался дым, а языки пламени дожирали остатки склада горюче-смазочных материалов.
– Плохо дело, товарищ комиссар, – доложил майор Зайцев (командир 148 иап. – Авт .). – Подняли мы самолеты по тревоге, но стоял туман, и вскоре пришлось садиться. Тут-то нас и накрыли…
Сигнал воздушной тревоги прервал наш разговор. Истребители пошли на взлет.
– Идемте в щель. Сейчас будет второй налет, – сказал майор…
– Сколько же будем играть в кошки-мышки? – спросил Зайцев, когда мы вылезли из щели. – Смотрите, что они, гады, наделали, – обвел он рукой дымящееся поле аэродрома. – Нас бомбят, мы кровью умываемся, а их не тронь.
– Потерпи, Зайцев, приказа нет, – уговаривал я командира полка, хотя у самого все кипело внутри от негодования.
«Юнкерсы» начали сбрасывать фугасные и зажигательные бомбы. Нет, это не провокация, а самая настоящая война! Прав Федоров (командир 6 сад. – Авт .): бить фашистов надо, беспощадно бить!
К нам подошел комиссар Головачев (замполит 148 иап. – Авт .). Глаза его были воспалены.
– До каких пор нам руки связанными будут держать? – Он зло пнул подвернувшийся под ногу камень. – В общем, докладываю: летчики решили драться, не ожидая разрешения сверху. За последствия буду отвечать вместе с ними.
Я связался по телефону с членом Военного совета округа и доложил обстановку в Либаве, надеясь получить совет или приказ. Но он ничего вразумительного не сказал. Напомнил только об одном:
– Что будет нового – докладывайте.
Стало ясно, что в этой труднейшей и запутанной ситуации приходится рассчитывать только на свой боевой опыт и поступать так, как подсказывает партийная совесть» [153] .
Очевидно, именно после этого эпизода пилоты по собственной инициативе отразили налет, описанный в воспоминаниях Коссарта. Лишь около 10 часов полк получил приказ о начале боевых действий и разрешении неограниченно применять оружие. В течение дня некоторые из летчиков провели по шесть воздушных боев. В этот день они доложили о двух победах – капитан Титаев и старший политрук Кудрявцев сбили по одному бомбардировщику типа «хейнкель». По немецким же данным, бомбардировочная эскадра KG 1 «Гинденбург» в первый день войны никаких потерь не понесла. В любом случае баланс оказался не в пользу советской стороны – до конца дня бомбардировкой на аэродроме было уничтожено восемь «чаек». По утверждению фон Коссарта, немецкие радисты даже перехватили передачу открытым текстом: «Нечем прикрыть с воздуха. Наш истребительный полк погиб под бомбами». Вечером по приказу командира 6-й смешанной авиационной дивизии полк перелетел в район Риги. Так как на 28 истребителей не имелось пилотов, эти машины пополнили графу «неучтенная убыль», которая вскоре стала основной в потерях материальной части советских ВВС в ходе летне-осенней кампании 1941 г. Таким образом, уже в первый день войны Либавская ВМБ осталась без прикрытия истребительной авиации с воздуха, и вся тяжесть противовоздушной обороны легла на зенитчиков. Истребительная авиация Балтийского флота, даже при всем желании, прикрыть Либаву не могла, так как ближайший флотский сухопутный аэродром Кагул находился на острове Сааремаа.