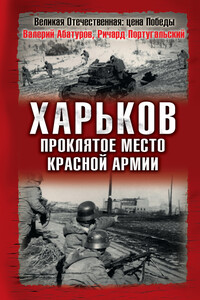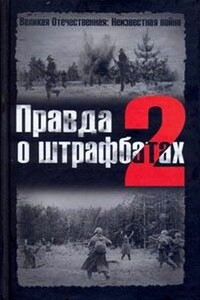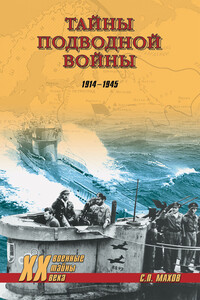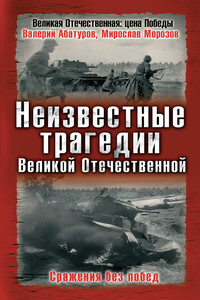Неизвестные трагедии Великой Отечественной. Сражения без побед - страница 45
Андрей Александрович приехал за полчаса до заседания. Войдя в мой кабинет, прежде всего спросил:
– Почему и кого вы собираетесь перебазировать из Либавы?
Я развернул уже приготовленную подробную карту базирования кораблей.
– Тут их как селедок в бочке. Между тем близ Риги – прекрасное место для базирования. Оттуда корабли могут выйти в любом направлении.
– Послушаем, что скажут другие, – ответил Жданов.
На совете разногласий не было. Все дружно высказались за перебазирование отряда легких сил и бригады подводных лодок в Рижский залив. Так и решили.
– Нужно доложить товарищу Сталину, – заметил А.А. Жданов, прощаясь.
А.А. Жданов, бесспорно, помогал флоту, но в то же время в решении некоторых вопросов ограничивал наши права.
– Я ведь не обычный член Главного совета, – заметил он однажды, когда я не известил его об одном из своих решений. Этим он хотел подчеркнуть и свои контрольные функции в нашем наркомате. Выполняя эти функции, Жданов не всегда брался отстаивать нашу позицию, если она расходилась с мнением верхов. Так, он не поддержал меня, когда я возражал против посылки подводных лодок в глубь финских шхер к порту Або (речь идет о событиях советско-финляндской войны. – Авт .), не высказался в защиту точки зрения моряков, когда Сталин предложил базировать линкор в Либаве (выделено авт.).
На этот раз я, кажется, убедил Андрея Александровича в том, что корабли целесообразно перебазировать в Усть-Двинск. Жданов предложил мне написать об этом Сталину, но не захотел говорить с ним сам. А дело-то было спешное.
Я сразу же направил письмо, но ответа не получил. Так случалось нередко. Поэтому, направляясь в Кремль, я постоянно держал при себе папку с копиями наших писем. В кабинете И.В. Сталина, улучив момент, раскрывал ее: «Вот такой-то важный документ залежался. Как быть?»
Часто тут же на копии накладывались резолюции. На этот раз я напомнил о своем письме и решении Главного военного совета ВМФ о перебазировании кораблей. Сталин, правда, резолюции писать не стал, но устно дал свое согласие.
Вернувшись к себе в наркомат, я первым делом позвонил командующему Балтфлотом: действуйте, разрешение получено… Беспокоились мы и о Таллине – главной базе Балтийского флота. Расположенный в Финском заливе, Таллинский порт был плохо защищен от нападения с севера. К тому времени рейд еще не успели оборудовать хорошими бонами и сетями, а на нем ведь стояли два линкора. Посоветовавшись с начальником Главного морского штаба и командующим флотом, решили перебазировать линкоры в Кронштадт. Всего за несколько дней до войны из Таллина ушел «Марат», а второй линкор, «Октябрьская революция», перебазировался только в июле, когда уже шла война, с большим риском» [147] .
Из приведенного ясно, что сторонником перевода части сил флота в базы южной части театра был сам вождь, причем делал он это в прямом приказном порядке, не посвящая даже военных моряков в свои замыслы. Интересно отметить и другое – пытаясь вывести корабли из базы, расположенной всего в 120 км от границы, но в то же время не решаясь перечить Сталину, Н.Г. Кузнецов предложил перевести ОЛС и 1-ю БПЛ в Усть-Двинск, что вряд ли было хорошим выбором. Дело в том, что и в Риге, и в Усть-Двинске еще только предстояло создать флотскую инфраструктуру и запасы материально-технических средств. А главное, при базировании здесь корабли попадали в ловушку, поскольку западный выход из Рижского залива – Ирбенский пролив – мог быть легко блокирован минными постановками, а северный – пролив Моонзунд (Мухувяйн) – был мелководным и не позволял пройти крейсерам. Очень скоро командованию КБФ пришлось столкнуться со всеми этими проблемами, а тогда, в конце мая, в Либаве пришлось оставить больше половины подлодок 1-й бригады (15 из 23 [148] ), а также ремонтировавшийся эсминец «Ленин».
Либава – небольшой латвийский город – занял в истории российского флота особое место. В 1890–1908 гг. для базирования кораблей русского Балтийского флота в 3 км севернее города здесь под руководством военных инженеров Корсакевича и Мак-Дональда был построен «военный порт Александра III». Он состоял из обширного аванпорта, двух искусственно вырытых бассейнов, внутреннего вычерпанного землесосами канала, соединяющего аванпорт с бассейнами, и групп береговых сооружений, располагавшихся по северную сторону канала. С городом порт соединяется необычным разводящимся поворотным Воздушным мостом. В самые суровые зимы льдом покрывались лишь внутренний канал и бассейны, но своевременная прокладка ледоколом ледового канала обеспечивала бесперебойную работу порта. Между внутренними бассейнами, примыкавшими друг к другу под прямым углом, разместился судоремонтный завод «Тосмаре». Вокруг города для сухопутной обороны было выстроено кольцо фортов.