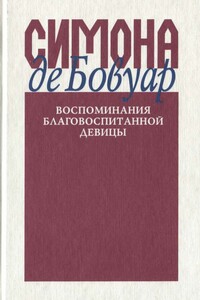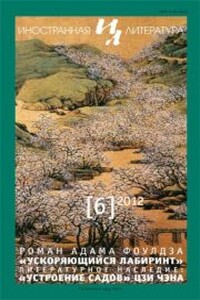– Я только сейчас поняла, почему ничто в СССР меня так не трогает, – сказала она.
– Почему? – поинтересовался он.
Такой близкий, такой внимательный – он был таким со всеми, но с ней особенно, – что она удивилась, почему не сразу решилась с ним заговорить. В теплоте этого взгляда было легко высказать вслух то, что она говорила в своих внутренних монологах.
– В конечном счете эта поездка нас обоих слегка разочаровала, – сказал он.
– Тебя – нет.
– Иначе, но тоже разочаровала. Я слишком многого не понимаю. И даже теперь, когда прошло уже больше месяца, я буду рад вернуться в Париж.
Он посмотрел на нее с легкой укоризной:
– Хотя я не скучал. Мне не бывает скучно, когда я с тобой.
– И мне с тобой тоже.
– Полно; ты же сама мне кричала: мне скучно!
В его голосе прозвучала неподдельная грусть. Она выкрикнула эти слова в гневе и уже забыла о них. А его они, похоже, глубоко ранили. Поколебавшись, она решилась.
– Я на самом деле очень люблю Машу. Но все-таки это не одно и то же – видеть тебя с ней или без нее. Я скучала оттого, что никогда не оставалась с тобой вдвоем. Тебе было все равно, а мне – нет, – добавила она уже с горечью.
– Но мы много раз оставались с тобой вдвоем.
– Не так уж много. И при этом ты утыкался в русскую грамматику.
– Что тебе стоило со мной поговорить?
– Тебе этого не хотелось.
– Конечно, хотелось! Мне всегда этого хочется. – Он задумался: – Странно! Мне-то казалось, что мы видимся куда больше, чем в Париже.
– Но всегда с Машей.
– Ты как будто так хорошо с ней ладила: мне и в голову не приходило, что она тебе в тягость.
– Ладила, да. Но когда между нами третий лишний, все иначе.
Он как-то странно улыбнулся:
– Я часто так думаю, когда ты берешь Филиппа с нами на уик-энд.
Она растерялась. Да, она часто просила Филиппа сопровождать их, это казалось ей в порядке вещей.
– Это совсем другое дело.
– Потому что он мой сын? Все равно ведь он третий лишний между нами.
– Больше он им не будет.
– И тебя это очень огорчает!
Неужели они снова поссорятся?
– Нет такой матери, которой бы нравилось, что ее сын женится. Но не думай, что я делаю из этого драму.
Они помолчали. Нет. Нельзя снова погрязнуть в молчании.
– Почему ты никогда мне не говорил, что присутствие Филиппа бывает тебе в тягость?
– Ты так часто упрекала меня за собственничество! И потом, что бы я выиграл, лишив тебя Филиппа, если все равно одного меня тебе мало.
– Как это? Тебя мне мало?
– О! Ты довольна, что я присутствую в твоей жизни. При условии, что есть и многое другое: твой сын, друзья, Париж…
– Какую чушь ты несешь, – удивленно сказала она. – Тебе ведь тоже нужно многое, не только я.
– Я могу без всего этого обойтись, если у меня есть ты. Только с тобой, в деревне, я был бы совершенно счастлив. А ты мне однажды сказала, что умерла бы там от скуки.
Неужели это серьезнее, чем она думала, – эта его мечта о переезде в Вильнев?
– Ты предпочитаешь деревню, я предпочитаю Париж, потому что каждый любит места своего детства.
– Это не главная причина. Одного меня тебе мало, и когда я сказал тебе об этом на днях, ты даже не возразила.
Она это помнила. Она была в гневе. И ей – напряженной, зажатой – всегда было трудно выдавить из себя слова, которых он ждал.
– Я злилась на тебя. Не объясняться же мне было тебе в любви. Но если ты не думаешь, что дорог мне так же, как я тебе, значит, ты и правда глуп.
Она нежно улыбнулась. В ее словах была доля истины: Маша почти не оставляла их одних.
– В общем, – сказал он, – произошло недоразумение.
– Да. Ты думал, что я скучаю с тобой, а я скучала по тебе: это более лестно.
– А я был счастлив, что ты принадлежишь только мне, но тебе было невдомек.
– Почему же мы так плохо друг друга понимали? – спросила она.
– Разочарование испортило нам настроение. Тем более что мы не хотели себе в этом признаться.
– Следовало бы всегда во всем признаваться, себе и друг другу, – сказала Николь.
– Ты мне всегда во всем признаешься?
Она поколебалась:
– Почти. А ты?
– Почти.
Оба рассмеялись. Почему же им было так трудно вместе в последние дни? Теперь все снова казалось таким привычным, таким простым.
– Есть одна вещь, которой я тебе не сказала, важная вещь, – продолжала она. – В Москве я вдруг почувствовала, что постарела. Я поняла, как мало времени мне осталось жить, – а это делает невыносимыми малейшие помехи. Ты-то не чувствуешь своего возраста – а я еще как.