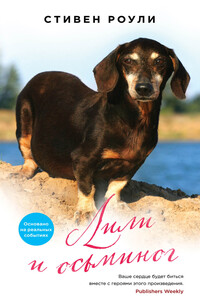– Вы, простите... что-то делаете здесь...
Внимания никакого, полный нуль.
– Извините, я видел там вас, во дворе, где снег, и я подумал...
И снова ничего, мурлыкая о чем-то, продолжает, уставившись на то, что на коленях, перебирать – теперь, как бы в ответ, еще усиленней, чем прежде, – вещицы из карманов: рассовывая, вновь их доставая, как будто ищет что-то и никак найти не может... Предельная сосредоточенность. Дотошность перебора. Словно подыскивает слова, чтобы ответить.
Глеб, не зная, что и делать, как отвлечь, на корточки присаживается тоже – и понимает вскоре, что горбун не ищет ничего, что ищет ничего он: и это вроде тика пальцев – такое вот пребеспокойное и бесполезное перебирание. И полностью растерян, беспомощно раздумывает Глеб, каким же способом ему привлечь внимание...
Спустился грузно лифт и трижды стукнул – створкой, дверью, снова дверью. Пенсионер Степан Петрович, престрогий мой сосед из верхних этажей, на нас взглянул недоуменным: «В чем здесь дело?» Но не найдя разумного предмета для вопроса, тронул дальше – в киоск за сигаретами, газетой, на прогулку, на почту, в поликлинику, на дачу – проверить клад в кубышке, утаенный, когда завбазой был, от ОБХСС?
Легко спустилась девушка-студентка со второго, ведя на выгул пса – воняющего сыром спаниеля. Добрейший кокер было сунулся ко мне, вихляя куцым хвостиком, миляга, но вдруг залаял. Горбун мгновенно спохватился, зажал предметы все в горсти, зачем-то снял берет и был таков, исчезнув за приоткрытой дверью. Я, чтобы как-то сгладить дикую неловкость, погладил пса, кивнул, приветствуя, соседке – и, подобрав свой плащ, влачившийся по полу, рванул за ним.
Ворвавшись к самому себе в квартиру, я так азартно хлопнул дверью (как будто бабочку накрыл сачком в конце погони), что прищемил плащ, и это заставило меня помешкать у порога. Когда освободил полу, обернулся, то выяснилось, что горбун исчез из виду, побыв вначале в том конце прихожей, прижав берет к груди, внимательно смотря на плиточки паркета – полон нерешительности, смущения.
Отбросив плащ и оказавшись в кухне, его там не застал. Метнулся в комнату – и здесь его не видно. И в ванной пусто, и в кладовке. Взял стул, залез на антресоли: оттуда вытащил и сбросил на пол коробки, пишмашинку, тряпки и журналы: никого. Вернулся в комнату, перевернул постель, открыл шкафы, проигрыватель, ящики стола; расшторил окна. Подпрыгнул посмотреть на шкапе – пусто. Вернулся в коридор, проверил дверь – закрыта. Открыл и выглянул на лестничную клетку. Степан Петрович, вызвав шумный лифт, пытался вытащить тугую пачку корреспонденции, кряхтя и чертыхаясь.
– Вы здесь не видели... – беспомощно решил я обратиться.
– Не видел, – перебил и, выдрав наконец рулон газет из щели, отпрянул реактивно к двери лифта. Крякнул. Бросил в меня свой подозрительнейший взгляд.
Я, дверь захлопнув будто от ожога, отчаянно отправился на поиски по кругу снова: кладовка, комната, совместный узел, шкафы – стенные, платяной и вновь стенные... подоконник, стол письменный, и в кухне: буфет, сушилка, ящики с посудой, окно... В окне по-прежнему – охапки света, взрыхленного ветвями тополей, берез и лип, сугробы, покрывшие кусты сирени; знакомый спаниель, ополоумев от такого фарта – пометить сразу все громадное пространство его собачьей космогонии – двора, вдруг ставшего вакантным в одночасье, – мечась, как в банке муха, струйку мудро экономя, по две-три капли только отпускает на каждый столбик, бугорок, подножие. Какая тишина глубокая вокруг.
Я все же оглянулся в кухню и, конечно, обмер. Горбун мой, примостившись на краю стола, сидел, скромняга, расправляя на коленях свой берет... Что за бред! Какая глупая, немыслимая шутка. Какой резон ему водить меня за нос? То первое, что мне тогда на ум пришло, как раз и было самым верным – как часто я потом жалел, что это не исполнил: мне нужно было в шею гнать его тогда же... Теперь же поздно, поздно, прилепился.
Спустя какое-то (какое? – то, что выпрастывает, взрастив, привычку) время я вполне смирился с его мерцающим наличием. (Привычка, кстати, чувственная чума: если и к смерти-любви привыкнуть возможно, то смерть – и тем скорее любовь – не существует, замещаясь привычкой, и значит, чувства все – и горя штопоры, и обмороки счастья – всего-навсего шелуха полутеней, попавших на ретину немого небожителя, который – как не было – сметет всю эту пелену со зрения, как только схлынет интерес к тому, что происходит...) Поначалу мне спасительно пришло в голову списать все на произвол воображения. Что вот, мол, засиделся, и то – в чем засиделся его (того) безумным содержимым – вдруг постепенно стало взбраживать сознание, которое, постояв должное в прохладном и герметичном одиночестве, вдруг стало бухтеть, себя будоража, расщепляясь и выделяя, выдавая взвесь и пузырьки, – и образовавшаяся муть в какой-то момент пошла, отделившись от света, в осадок, и вот – нате, некий сгусток фантомный, как выкидыш, выпал под ноги и тут же юркнул в невидимость, затаился: но время от времени дает о себе знать, вызывая тревогу, к которой хочешь не хочешь, а нужно привыкнуть – и привыкаешь.