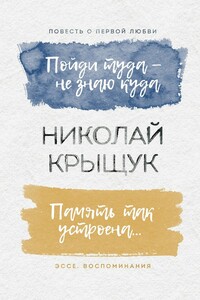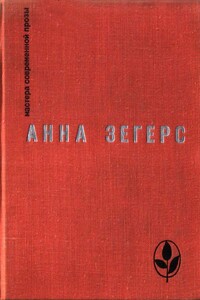– Теперь давайте поговорим о возрасте.
– Мне неизвестно, что такое возраст.
– Например, возраст – это удивления мера, толщина отделяющего забывание пласта... Мера трудов археолога горних заведений, его неудача.
– Скорее мера мысли. Но и это – слова, к тому же почти чужие...
– В таком случае не подскажете ли, как различить нас с вами в антропологическом смысле, взявши за основу разность дат рождения.
– Никак. А если все-таки различить, получится пшик, бессмыслица.
– В смысле существования – и ежу понятно. Я же имею в виду примерно следующее... Вы, простите за обиходность, человек другого поколения.
– Ну и что? Я просто формально родился в иное время. Время мало имеет отношения к человеческому веществу.
– А я родился в то время, когда человека (уже почти буквально) могли передать по телефонному кабелю. Так вот, что вы можете сказать мне, чего я не знаю и не смогу никогда узнать?
Стефанов какое-то время молчит.
Я возвращаюсь из ванной, когда он вновь обращается к устной жизни.
– Со своей стороны, я бы мог спросить: что вы думаете о современности?
– Я не люблю современность.
– Потому что ненавидите наглядность и любите ясную незримость? Считаете, что говорить и даже думать вовне не имеет никакого смысла?
– Перебор. Потому что я точно так же не люблю вареные яйца и герань, меня от них не просто тошнит, я бегу от одного только запаха мысли о них.
– Я же хотя бы тем отличаюсь от вас, что мне сейчас современность просто, без экзальтации, безразлична...
Стало скучно, и беседа на этом угасла. Откуда у старика такая привычка к дидактике?
Ночью:
– Стефанов...
– Да.
– Вы видите месяц?
– Не вижу.
– Вон там, где отсвет из-под облачка... еще прячется за деревьями.
– Ну и пусть себе прячется.
– Вам что, неинтересно?
– Нет.
– Мне кажется, он похож на блеск зрачка. Лунная тень – это непрозрачный зрачок, а ободок света – его неполный блеск.
– Мне безразличны наблюдения. Тем более сравнения.
– А меня смущает, что он нас видит.
– Попробуйте зажмуриться.
– Не получается. Он остается на сетчатке.
– Тогда сдвиньте штору.
Я встаю и снова забираюсь в постель. Стефанов лежит навзничь с открытыми на потолок глазами. Лунный свет трогает его бородку. Я заворачиваюсь плотнее в одеяло.
– И как теперь?
– Порядок. Стефанов...
– Да.
– Вы, говорите, были ребенком?
– Был. А что?
– Как это?
– Вы что, маленьким не были?
– А как у вас там было... в детстве?
– Примерно как сейчас... Имеется в виду – все тот же способ зрения. Вот, например, то, как я вижу солнечные пятна на узоре от тени листвы. Они шевелятся, живут, мерцают... Тот, кто видит их – как бабочек, – и есть я, пятилетний.
– А всякие там мысли, знанье, книги?
– Отчасти, это наносное. Удивляешься, конечно, временами тому, другому... Но удивиться так, как я лет в восемь удивился самому себе, уже не удавалось никогда... Мать послала меня за молоком. Я шел по бетонной дорожке, болтая в руке пустым бидоном, разглядывал те самые тени от листвы, и вдруг встал как вкопанный – и так стоял неизвестно сколько. Понимаете ли, я неожиданно понял, что я есть я. Что будто бы внутри меня абсолютно твердый, вечный шар, очень красивый, зеленый, как яблоко, живой, но только абсолютно твердый, неуничтожимый... Завороженный открытием, я всматривался в него со стороны – он блестел и быстро и величественно вертелся, отражая все вокруг: хоровод деревьев, дом, гаражи, карусель, воронку неба... Помнится, сколько не пытался повторить вот это состояние сознания, никак не мог взять в толк, как мне удалось отдалиться от себя, чтобы шар этот вынуть, видеть.
Я помолчал, присматриваясь, не появился ли месяц снова.
– Стефанов...
– Что.
– Тоскливо мне.
– А я вот вспомнил, как в детстве болел воспалением легких. Золотистый раствор в капельнице, онемевшая рука. Поздняя осень, первые заморозки. Фонарь светит в черных, костлявых деревьях. Его свет преломляется в опрокинутой в вену склянке. Я не могу оторваться от фонаря и думаю, что он похож на негатив вороньего гнезда... По ночам деревенские уводили коней из колхозной конюшни – до утра кататься. Носились по госпитальному парку, подъезжали к окнам, требовали для них украсть хлеб из столовки. Мы боялись и, сговорившись, отламывали по четвертинке от своих паек. Громадная, как смерть, лошадиная морда с бешеными, выпроставшимися из орбит глазами, храпя, пуская пар из ноздрей, с оскала, вламывалась в раму и вдруг взрывалась сиплым гоготом, взлетая на дыбы, расплющивая в жутком оскале удила... Потом – страшный, кругами, топот... Комья подмерзшей земли, как от выстрелов, по аллее.