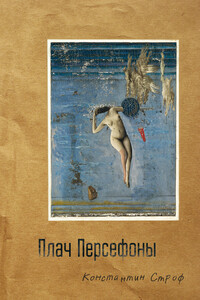Страшно хотелось пить.
Я отобрал с земли несколько битых абрикосов.
Обсосанной косточкой постучал в окно.
За спиной раздался глухой звук упавшего плода.
Постучал еще.
Дворик был тенистый, и лезть обратно на крышу не хотелось – я сильно обгорел во сне, и теперь любое движение, вызывающее сокращение кожи, ощущалось как ссадина.
Я потуже затянул на бедрах простыню и сел на лежащий под абрикосовым деревом коврик. Я подбирал вокруг себя сочные плоды и, надкусив, высасывал медовую мякоть.
Вдруг подумал: как она там?
Все равно пить хотелось нестерпимо, и я снова подкрался к окну.
Постучал – теперь упорней, звонче.
Рама прянула от стука, как живая.
Громко спросил по-английски: есть кто-нибудь?
За плотной шторой ничего не видно.
Вдавил раму глубже (насколько было возможно – что-то там мешало) и протянул руку, чтобы отодвинуть штору. Не по себе мне было лезть в чужое хозяйство. Я мешкал, теребя, сбирая пядью складки толстой ткани, пытаясь подобраться к краю – чтоб разом сдвинуть и открыть – что там, за нею.
Не так все оказалось просто.
Я стал тянуться вбок и внутрь – для этого пришлось прижаться предплечьем и щекою к раме. При этом в боковом зрении вдруг мелькнуло чтото зеленоватое, находясь смутно, не в фокусе из-за близости к глазу, рывком спустилось по известняку стены и застыло у переносья.
Зажав в руке край шторы, я отстранился, чтобы разглядеть. Это была ящерка, точь-в-точь такая же – с раздвоенным хвостом. Во рту она держала пестрый лоскуток: исчезнувшую по брюшко в пасти бабочку. Вдруг кто-то сильно дернул меня за руку, и я влетел в темень.
Что было дальше? – Дальше снова темнота. И в ней какие-то щелчки, щелчки мгновений, как будто кто-то перезаряжает... Да, там были вспышки, одна, другая, череда из букв, которые слагались по группам в имена, так, словно смысловой мотив на ощупь к истине пытался подобраться, чтоб имя верное, единственное выбрать... Щелчки и вспышки раздавались, похожие на то, как если бы фотограф опергруппы работал на месте преступления, снимая ракурсы от следа к следу с трупа.
Все это длилось дико долго. Никак нельзя было проснуться...
Потом возник внезапно некий звук, протяжный тонкою тоской, – и, подхватив, вдруг вынес зрение на место ясное, и я очнулся...
В общем-то все, что случилось тогда со мной, впоследствии никогда не вызывало чувства досады. И совсем не потому, что сослагательный мотив отношения к прошлому всегда мне казался порочным. Позже, вспоминая, я всякий раз был счастлив от уверенной мысли, что легко отделался. Хотя, чего именно я тогда бежал, все еще не ясно. Есть два варианта отношения к происшедшему. Либо расценивать его как пустое событие – случай, не имеющий никакого внешнего смысла. Либо пытаться найти слабый отзвук, след, неким образом деформирующий судьбу, ее тем самым выявляя. Увы, такое понимание забрезжило лишь недавно...
Я отчетливо помню, что после провала в окно мне не было больно. Зацепившись ногой за раму, я окончательно потерял равновесие и рухнул в мягкий морок головою. Окно со стуком затворилось, портьера вязко колыхнулась, и чья-то крупная фигура исчезла в полной темноте. Я было подался вперед, чтоб встать, но кто-то, взяв меня за плечи, сдержал и, дернув, снова опрокинул навзничь. Я попробовал вырваться, напряг пресс, плечи, но тщетно – второй, навалившись, сдержал меня за ноги. Я дико закричал. Другой раз, третий. Ноль внимания. Мне держат руки, ноги – и молчок. В конце концов я надорвал, охрипши, голос... Довольно долго я лежал и слышал их сопенье. Пытался раза два рвануться, сбросить – хоть бы хны: как будто бы свинцом меня залили. Вдруг кто-то положил мне руку на глаза, и больше я уж ничего не помню внятно...
Очнулись мы почти одновременно.
Сначала я увидел звезды – такие крупные и сочные, как каменная соль на хлебе: вся половина неба полусферой тихонечко кружилась и дымкой марева, как будто рябью, покрывалась. Потом вдруг что-то поднялось с моей груди, стало легче дышать. Я привстал и, вытянув руки, осторожно нащупал ее.