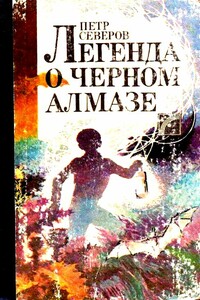Почему-то раньше я не замечал, какая дряхлая усадьба у Постай ууча,- избушка, юрта, стайка для коровы, ворота..,. Состарились все постройки вместе с хозяйкой.
Особенно сильно обветшал домик. Иссохли и выцвели от солнца, дождей и ветра за долгие годы бревна, растрескались, стали светло-серыми, будто поседели. Домик этот дед Нартас рубил, когда в аале мало кто избы ставил. И плотников настоящих еще не было. Сделал он избушку, как сумел. Вот и торчат по углам сруба концы бревен — одно длиннее, другое короче. Сейчас бани и то лучше ладят. Окошечки — смех один! Их всего три, и каждое с тетрадный листок. Стекла из осколков, слепленных смолой. Крыша пластяная, сплошь заросла травой. Даже собачий лук на крыше растет! Нет у домика ни сеней, ни крыльца. Под дверью лежит вместо приступки плоский камень, а к нему приткнуты два трухлявых чурбана. Во всем аале нет, однако, древнее постройки.
Юрта тоже немногим лучше выглядит. Скособочился шестигранник бревенчатого сруба. Погнила лиственничная кора, которой покрыт конус крыши.
Бабушку Постай мы застали в юрте. Она сидела у очага на маленькой чурочке, сбивала масло. Держа в редких зубах трубку из березового нароста, попыхивала дымком.
— Толай с Арминеком, что ли? — не сразу разглядела подслеповатыми глазами, перестала крутить маслобойку.- Совсем забыли старуху… Спасибо, зашли. Старому человеку одна радость- были бы люди рядом. Больше чего надо? Проходите, проходите, садитесь к огню. Хоть и тепло, весна на дворе, а у огня хорошо…
Мы уселись поближе к ней на таких же низеньких чурбачках, служивших вместо табуреток.
— Некогда было,- стал оправдываться Арминек.
— Ну, ну,- понимающе кивнула ууча.- Конечно, конечно…
Я спросил:
— Майра Михайловна приходила?
— Вчера была. Обещала утром наведаться, и нету. Жду, жду ее… Плакала она. Там не любят пускать ее ко мне. Уехать бы нам в другой аал… Обижают внучку. Некому заступиться за сироту,- будто и не нам, а самой себе говорила Постай ууча.- Отец дома, Толай?
— Сегодня скот на пастбище погнал. А мама в телятнике,
— А твои, Арминек?
— Отец на пашне, мама ягнят пасет.
Она снова взялась за работу, продолжая выспрашивать пас про домашние дела. Долго расспрашивала — отводила душу в разговоре. Ей все равно было с кем поговорить, наскучавшись в одиночестве, и мы охотно поддерживали беседу.
Нам нравилось бывать в этой старой юрте. И я, и Арминек жили в деревянных домах, а тут все было необычным. Несмотря на жаркий огонь в очаге, в юрте было прохладно. Через отверстие на макушке — тунук — вытягивало весь дым. Оттуда же проникал ровный мягкий свет. Внутри просторно. Каждая вещь на своем месте, определенном раз и навсегда. На женской половине — справа от входа — длинные полки уставлены посудой, стеклянной и фарфоровой. Чего тут только нет! Старинные пиалы с золоченой каймой, расписанные узорами, тарелки, чашки, чайники… Пониже — чугунные и алюминиевые сковороды и кастрюли. Возле входа — деревянные кадки, бочонки, жбаны, ведра, берестяные туеса… Тут же несколько сосудов из красной меди. На самой верхней полочке, как солдаты в строю,- бутылки разных размеров, формы, цвета. Сейчас таких не делают. Ууча называет их «хан птулкалары» — царские бутылки значит. Вон с каких времен сохранились!
Сбив масло и покончив с расспросами, бабушка Постай придвинула к нам низенький столик-чир, налила по чашке горячего супа. На красных углях очага тихо посвистывал пузатый черный чайник.
Я продолжал разглядывать нехитрое убранство юрты и никак не мог отвести глаз от большой деревянной ложки, расписанной яркими красками с позолотой. Больше половника размером, она свешивалась с полки. Солнечные лучи падали через тунук прямо на нее, и казалось, что ложка доверху полна золотым светом.
Ууча перехватила мой взгляд.
— Нравится? Это хохос сомнагы — так ее Нартас назвал. И правда, колхозная ложка! Он ее в премию за ударный труд получил. Старик ее берег. Он говорил: «Хохос сомнагы — свидетельница новой жизни в аале. Память обновляющейся крестьянской жизни». Вот как говорил Нартас…