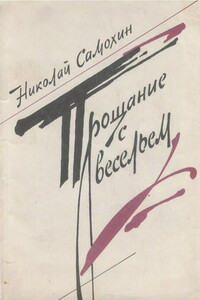стоит кровать и даже табуретку впихнуть некуда? Ничего, сказал Яков
Соломонович, они сделают цирковой номер, и все влезут, дочь студентка, через пару
месяцев будет уже врач, неужели у вас, Анна Митрофановна, так много лишних
денег, что вы уже отказываетесь от квартирантов. Договорились, они переехали на
другой день, я их сам привёз. Хорошие, милые люди Рогинские, зажили мы с ними,
как одна семья. Дочь Шура заканчивала медицинский, была сталинской
стипендиаткой. И когда только она успевала что-то выучить! Керосина у нас не
было, и пузырь на лампе лопнул, сидели при плошке в полумраке. Шура вечерами
рассказывала что-нибудь медицинское или про книги «Ранок» («Утро») и
«Уркаганы» посаженного в тюрьму писателя Микитенко, или читала стихи. Увидев
мои рисунки, похвалила и показала свои, она замечательно рисовала героев любой
книги, особенно «Трёх мушкетёров» – и восхитительную миледи, и кардинала
Ришелье, и каждого из мушкетёров. С ней всем было хорошо, она была обаятельна.
Играла на скрипке, но скрипка осталась в Харькове, и Шура брала мою балалайку,
легко перебирала пальцами, воспроизводя любую мелодию без всяких нот, на слух.
Вечера с ней были для нас праздником. С нашей матушкой она говорила по-
украински, но мама не знала языка толком, в сущности, говорила по-русски, только
с украинским акцентом, как все тутошние хохлы. «Шо такэ дид?» – спрашивала
Шура, а мы все хором «де-е-душка». Оказывается, нет, «дид» по-украински – тень.
Вечером, как только появлялась Шура, мы готовы были ей на шею кинуться. Она
видела нашу нищету, наше убожество, считала, что мы заслуживаем лучшей доли, и
старалась всячески помочь. Мы её полюбили за чуткость, внимательность, заботу.
Они излучала жизнелюбие. Может быть, потому, что чуяла – скоро погибнет…
Мне казалось, ей тоже с нами хорошо, мы ей были нужны, не мы, так ещё кто-то,
потому что она была не совсем счастлива. Она любила Абрашу Фабриканта, сына
профессора, а он… Даже говорить не хочется. Однажды поздно вечером Абраша
всё-таки проводил Шуру, вошёл в нашу хату холёный красавец в каракулевой
кубанке, в пальто с метровыми плечами, с каракулевым воротником, прямо артист
кино, вальяжный такой, уверенный, позволяющий себя любить не только Шуре, но
и всему медицинскому институту, где сплошь девушки. Чернявый, с усиками,
неотразимый красавец. О том, что его сверстники бьются с фашистами, я подумал
только тогда, когда сама Шура ушла на фронт. Рассказывала о нём каждый день –
мимолётно, вскользь, обязательно иронично, и спрашивала меня: разве мушкетёры
так поступают? Усмехалась, насмехалась, сердилась, но держала его в себе всё
время. Я её старался утешить и обнадёжить, дескать, пошёл он ночью по грязи на
Ленинградскую, в такую даль, не случайно, что-то же заставило прошагать столько
километров. Шура была счастлива. Он наверняка запомнил тот редкий случай, как
однажды в юности месил грязь по нашей Ключевой, по Ленинградской, и если он
сейчас ещё жив, то пусть вспомнит Шуру Рогинскую, и ту ночь глубокой осенью
1942 года, и нашу Дунгановку, далёкую, тёмную и глухую, как обратная сторона
Луны.
3
В конце октября в школе объявили, что Совет народных
комиссаров принял постановление о военной подготовке учащихся с пятого по
десятый класс. У нас появился военрук капитан Проклов, инвалид войны,
грубоватый, суровый и требовательный, даже слишком. Мы же не красноармейцы, в
конце концов, мы просто ученики средней школы, а он обращается с нами по-
солдафонски, повторяя слова Суворова: тяжело в учении, зато легко в бою. Забудьте,
что вы школьники, и считайте себя бойцами.
На втором этаже у нас появился военный склад, где были
противогазы, санитарные носилки и сумки с красным крестом, винтовки самые
настоящие со штыками, только с дыркой в патроннике. Хранились там воинские
уставы боевой, полевой, дисциплинарной службы, всякие инструкции по ПВХО,