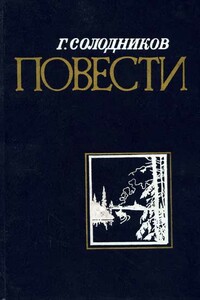революции полагалось бы ему носить кожанку и маузер в деревянной кобуре.
Возраст уже позволял ему отличиться в огне боёв, в 1918 ему уже было
четырнадцать лет. Потом, когда прогремела гражданская война, отец обязан был
поступить на рабфак, однако же, он этого не сделал, революцию прожил без
маузера, пятилетки без рабфака, в стороне от важнейших вех, не говоря уже о том,
что в тюрьму попал. Он был весёлый, кудрявый, иногда рассудительный, но чаще
беспечный, и порой вспыльчивый. А посадили его отчасти и по моей вине. Жили
мы тогда в Башкирии, в деревне Курманкаево, я ещё в школу не ходил и дружил с
двумя пацанами Хведько. Отец у них был партийный, о чём я узнал слишком
поздно. Он расспрашивал меня о делах дома, куда ездили мой отец с дедом, что
привезли, и я, довольный вниманием взрослого, подробно рассказывал, куда и
зачем, и за сколько продали, чтобы купить лесу на постройку дома. Я гордился тем,
что много знаю, а дяденька Хведько меня внимательно слушал и нахваливал. Не
знал я, что изо всех своих детских силёнок я помогаю дяденьке писать донос. Не
забыл я и про гармошку. Отец мой с детства мечтал научиться играть на гармошке,
чтобы гулять по деревне, песни петь и самому себе подыгрывать, но всё как-то не
получалось, и холостым не купил, и после женитьбы мечта не сбылась, нужда и
скитания с места на место, не до гармошки. Потом осели мы, наконец, в
Курманкаеве, начали дом строить – и отца посадили. Но что здесь важно? Перед
тюрьмой он успел всё же купить гармошку и научиться пиликать на ней «Ты,
Подгорна, ты, Подгорна, золотая улица, по тебе никто не ходит, ни петух, ни
курица» – такие припевки. А годы были голодные, тридцать третий, тридцать
четвёртый, я помню лепёшки из лебеды, чёрные, глиняно-тяжёлые, они распадались
в руках. Зимой тогда ещё ходил тиф, я в сумерках приникал к окну и жадно смотрел
на снежную вечернюю улицу, ждал, когда же пойдёт по дороге этот страшенный
тиф, его все так боялись. Отец с дедом постоянно что-то покупали, продавали,
меняли, помню, как-то пригнали сразу трёх лошадей, и однажды отец явился домой
с гармошкой и три дня не выпускал её из рук, у всех уши опухли от «Во саду ли, в
огороде». Если бы Хведько это слышал, он бы написал свой донос раньше. Но и так
вся деревня про неё узнала, и когда пришли описывать для конфискации, то в
первой строке вывели: «Гармонь тульская». Перед тем, как пришла милиция, я
видел сон: катался мой отец на коньках по речке Дёме, голый скользил по светлому
льду. И провалился в прорубь. Отчётливо я всё видел, прямо как на картинке,
рассказал маме, она сразу передала отцу, потом пришёл дедушка по матери
Митрофан Иванович, пришлось и ему рассказать. Я запомнил их встревоженный
интерес. Родня моя с малышнёй не общалась, детей взрослые прогоняли, а тут вдруг
ко мне такое внимание. «Твой батька вынырнул?» – уточнял дед. Нет, отвечал я, как
провалился, так больше и не показывался. Через два дня явилась милиция, забрала
и отца, и деда, судили, Митрофану Ивановичу дали десять лет, он через месяц
сбежал, а отца отправили строить канал Москва – Волга. Мы с мамой из
Курманкаево переехали в Чишмы на чужой лошади, потом в Троицк, а потом дед-
беглец перевёз нас во Фрунзе, куда и приехал отец из лагеря.
Жили мы вместе, у деда семеро да нас пятеро, надо было
отделяться, строить свою хату. Собрали деньжат, купили лошадь с телегой, отец
устроился возчиком на стройку и начал привозить домой шабашки – доску какую-
нибудь, а то и две, штук пять кирпичей, кусок фанеры, кособокую раму оконную,
лист жести. Жили впроголодь, ничего не покупали и копили деньги на свой дом.
Приезжал отец усталый, весь в пыли, а я как сын, главный помощник, распрягал
лошадь и разгружал эту самую шабашку. Она не тяжёлая, таскать не трудно, если