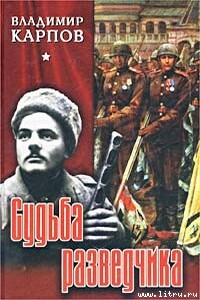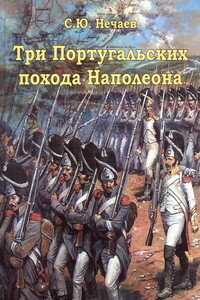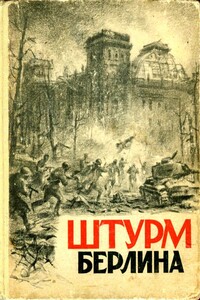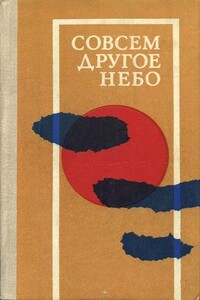Когда Иван Петрович подошел к казарме, с крыльца метнулся в дверь солдат. «Наблюдатель», — отметил замполит. В коридоре было необычно тихо. Опять мелькнул у двери ленинской комнаты «дозорный». «Ждут начальство, — окончательно убедился майор, — в расположении ни души, всех до единого собрали». Как только открыл дверь, в тишине хлестнула зычная команда:
— Встать! Смирно! — Зубарев, чеканя великолепный строевой шаг, которому мог бы позавидовать любой офицер с командной должности, пошел навстречу замполиту. Солдаты стояли вытянувшись, в полнейшей тишине.
— Товарищ майор, личный состав второго батальона на вечер поэзии собран, присутствует сто сорок человек, третья рота в наряде. Заместитель командира батальона капитан Зубарев!
Ничего не поделаешь, после такого рапорта придется здороваться, нельзя подводить капитана и начинать вечер с замечания.
— Здравствуйте, товарищи!
— Здра… жела… това… майор!
Окна звякнули стеклами, и опять воцарилась тишина. Лицо капитана Зубарева сияло от удовольствия. Колыбельникову пришлось сесть за отдельный стол, приготовленный специально для него рядом с трибуной.
— Садись! — рубанул Зубарев, как только старший занял свое место.
— Разрешите начать? — щелкнув каблуками, спросил капитан, наслаждаясь четкостью взятого ритма.
— Пожалуйста.
Зубарев сделал незаметный знак пальцами опущенной руки, коренастый сержант поднялся из–за стола, оглушая присутствующих громкими ударами подошв об пол, прошагал, как к спортивному снаряду, секунду постоял и, вскинув высоко подбородок, стал бросать в присутствующих строфы, такие же громкие и рубленые, как строевые шаги:
Наша рота боевая,
Дан приказ — везде пройдем,
Артиллерия родная
Нас поддержит огоньком!
Нас и реки не пугают,
И болота не страшат.
В нашей роте каждый знает:
Нет для воина преград!
Чтецы сменяли друг друга все по тому же всем заметному «невидимому» знаку капитана. Ведущего не было. Солдаты выходили четким, отрепетированным шагом. Стихи гремели, как команды.
В комнате было тесно и душно. После обеда от горячей пищи солдат разморило. Они сидели неудобно, стесненно, по три человека на двух стульях. Колыбельников с сожалением глядел на слушателей. Многие читали журналы и газеты, раскрытые на столах, или тихо беседовали о чем–то своем.
«Мероприятие, — с отвращением думал Иван Петрович. — Как после такой казенщины не побежишь за казарму, услыхав переборы гитары? Ох, Зубарев, много с тобой хлопот предстоит. Нелегко будет тебя переубеждать. Замполит батальона, вместо того чтобы помощником мне быть, только усложняешь работу! Да, казенщина, оказывается, в идеологических делах вредна не меньше, чем пошлые песенки. Это другая крайность. Казенщина отвращает людей, сводит на нет воспитательный смысл нашей работы, убивает желание нас слушать».
Колыбельников нашел взглядом Голубева. Пожалуй, только у него одного был оживленный взгляд — он с интересом слушал выступающих и поглядывал на Колыбельникова. Майору вдруг стало стыдно перед солдатом за происходящее в этой комнате: конечно же, это не «вечер поэзии» и не «час отдыха», совсем не то, что намеревался организовать он, замполит. Уж кто–кто, а Голубев толк в поэзии понимает. И стихи подобрал Зубарев очень неумело. У него удивительная глухота к стихам. В поэзии, как и в музыке, нужно иметь особый слух.
Поглядывая на оживленного Юрия, Колыбельников забеспокоился: «Не собирается ли он читать свои стихи? Конечно, со старыми он не выступит. Но если он будет читать что–то написанное специально для такого вечера, может быть, даже по подсказке Зубарева, желая мне отплатить за внимание и поддержку, — это будет неприятно! Мне бы не хотелось, чтобы он опустился до угодничества. Нет, он гордый парень…»
Выступающие сменяли друг друга. У всех были очень похожие громкие голоса. Ничего, кроме тяжести в голове, такая декламация не вызывала.
— Разрешите закончить? — вдруг громко спросил Зубарев.
Майор слегка вздрогнул от неожиданности. Вспомнив о Голубеве, спросил:
— Может быть, кто из ваших поэтов хочет прочитать свои стихи?
— Голубев! — крикнул рядовой Мерзляков.
Некоторые солдаты оживились, подхватили: