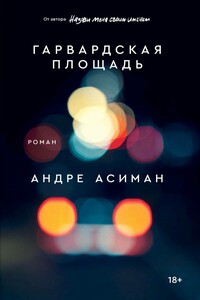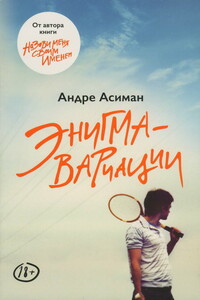Назови меня своим именем - страница 89
– Allora сiao, Oliver, e a presto[103], – сказала она.
Отец попрощался примерно теми же словами, а напоследок добавил:
– Dunque, ti passo Elio – vi lasсio[104].
Я услышал два щелчка – они сообщали о том, что на линии остались только мы вдвоем. Как тактично со стороны отца. Теперь мы могли поговорить наедине, но я вдруг растерялся от такой неожиданной свободы; казалось, мы находились в разных временных пространствах. Хорошо ли он долетел? Да. Еда в самолете была ужасной? Да. Думал ли он обо мне? У меня закончились вопросы, но я зачем-то продолжал забрасывать его новыми.
– А сам как думаешь? – прозвучал его туманный ответ, будто он боялся, что кто-то может снова поднять трубку.
Вимини передает привет и очень грустит. Завтра куплю ей что-нибудь и отправлю экспресс-почтой. Я всегда буду помнить Рим. Я тоже. Как тебе твоя комната? Нормально. Окна выходят на шумный двор, никакого солнца, ужасно мало места… Не знал, что у меня так много книг и такая крошечная кровать… Вот бы начать все заново в этой комнате, сказал я. Вот бы каждый день моей жизни стоять с тобой плечом к плечу у окна – как тогда, в Риме, добавил я. И моей тоже. Рубашка, зубная щетка, ноты – и я прилечу, так что ты тоже не искушай меня. Я взял кое-что из твоей комнаты, сказал он. Что? Никогда не угадаешь. Что? Выясни сам. И тут я произнес эти слова – даже не потому что хотел, а потому что повисла тишина и это был самый простой способ прервать ее; да и лучше так, чем потом сожалеть, что не осмелился признаться: я не хочу тебя терять. Мы будем переписываться. Я буду звонить с почты – больше уединения. Зашел разговор про Рождество – и даже про День благодарения. Да, на Рождество. Но между нашими мирами, которые до этой секунды разделяло расстояние не большее, чем тонкий кусочек кожи, однажды подцепленный Кьярой с его плеча, – между нашими мирами теперь вдруг пролегли тысячи световых лет. Когда придет Рождество, все это, возможно, уже не будет иметь значения. Дай мне еще раз послушать шум у тебя за окном. Я услышал треск. Повтори еще раз тот звук, который ты издал, когда… Робкий, тихий звук – потому что здесь люди, объяснил он. Мы засмеялись. Да и потом – меня зовут на обед. Лучше бы он никогда не звонил. Я хотел услышать, как он зовет меня по имени. Хотел спросить – теперь, когда мы были так далеко, – что же все-таки произошло между ним и Кьярой. Но не спросил даже, где он оставил свои красные плавки. Наверняка он забыл о моей просьбе и забрал их с собой.
После разговора я первым делом отправился наверх в свою комнату, чтобы выяснить, что за вещицу на память обо мне он забрал с собой. На стене я увидел не пожелтевший прямоугольник обоев – пустое место, на котором раньше висела антикварная открытка в рамке, датированная, кажется, 1905 годом. Боже. Открытка с изображением откоса Моне. Один из предыдущих летних постояльцев, тоже американец, нашел ее на блошином рынке в Париже два года назад и отправил мне по почте в качестве сувенира. Открытка, теперь уже выцветшая, впервые была отправлена почтой в 1914 году – на обороте сохранилось несколько побледневших слов, в спешке нацарапанных немецким готическим курсивом, – и была адресована какому-то доктору в Англии; а рядом наш американский студент добавил свои поздравления черными чернилами: «Однажды вспомни обо мне». Эта карточка будет напоминать Оливеру о том дне, когда я впервые заговорил о своих чувствах. Или о том, когда мы проезжали мимо откоса на велосипедах, притворяясь, что не замечаем его. Или – когда решили устроить пикник на том самом месте и поклялись не прикасаться друг к другу, а вскоре после этого уже вместе нежились в постели. Я хотел, чтобы эта открытка все время была у него перед глазами – всю его жизнь, прямо над рабочим столом, над кроватью, везде. Вешай ее всюду, куда идешь, думал я.
Той же ночью, как всегда во сне, я вдруг кое-что осознал. Забавно, до того дня мне и в голову это не приходило, а ведь подсказка была у меня перед самым носом целых два года. Его звали Мэйнард. Однажды днем, когда все отдыхали – и он это прекрасно знал, – он постучал в мое французское окно и спросил, остались ли у меня черные чернила; он израсходовал свой пузырек, но, как и я, пишет только черным. Он зашел внутрь. Я, в одних плавках, подошел к письменному столу и протянул ему бутылочку. Он долго и неловко стоял на месте, не сводя с меня взгляда, и только потом взял ее. В тот же вечер он вернул чернила, оставив пузырек с моей стороны балкона. Любой другой человек постучал бы и отдал бутылочку мне лично. Мне было пятнадцать. Но я бы не отказался. Помню, я рассказывал ему о своем любимом месте на холмах.