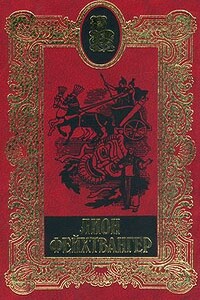Как некогда любил Иаков мальчика Иосифа, так любил он мальчика Маттафия – слепой и глупой отцовской любовью. И как некогда Иаков подарил мальчику Иосифу блестящее облачение и тем пробудил у братьев зависть к нему, так и он облек своего Маттафия в блеск, чреватый возмездием. И как некогда возвестили Иакову[108]: «Растерзан, растерзан твой сын Иосиф», – так и ему сообщил враг: «Твой любимый сын погиб». Но на праотце Иакове не было никакой иной вины, кроме слепой и глупой его любви, а он, Иосиф бен Маттафий, загажен грехом с головы до пят. И если тот мальчик, Иосиф, был все-таки жив, хоть и брошен один в пустыне, на дне глубокого колодца, его Маттафий лежит здесь перед ним – мертвый, восковой и загримированный, адамово яблоко четко выступает на шее, и ни единое дыхание жизни не колеблет его, и ни единой надежды нет.
Ночь миновала, короткая летняя ночь, а вместе с утром пришли бесчисленные посетители, чтобы в последний раз приветствовать мертвого Маттафия Флавия. Было известно, что император принял близко к сердцу этот несчастный случай, унесший любимца его Луции, по городу ходили романтические рассказы о жизни мальчика и его кончине, много говорили о его красоте и блеске. И вот бесконечной вереницею потянулись люди через комнату с перевернутою кроватью, на которой лежал мертвый Маттафий. Сочувствующие, любопытные, честолюбивые. Они пришли, не упуская ни малейшей возможности угодить императору, они пришли, чтобы поглядеть на труп, чтобы выразить свою скорбь, чтобы высказать свое участие. Весь Рим прошествовал мимо мертвого тела. Но Иосифа никто не видел: он заперся в самой дальней из комнат своего дома и сидел на полу, поджав ноги, босой, небритый, в разорванных одеждах.
Пришли Марулл и Клавдий Регин, пришел древний старец Гай Барцаарон и думал о том, что скоро вот так же будет лежать и он, пришел сенатор Мессалин и с выражением учтивого сочувствия долго стоял у трупа, и никто не мог угадать, что у него в душе, пришел и павлиний сторож Амфион и зарыдал в голос, и пришла девочка Цецилия. Она тоже дала себе волю, и слезы залили ее лицо, всегда такое светлое и спокойное, и она раскаивалась, что так глупо мучила Маттафия и что сопротивлялась в тот день, и что отложила все до его возвращения.
Пришли и оба принца, Констант и Петрон, или, вернее, Веспасиан и Домициан, как звались они теперь. Они стояли у трупа, сосредоточенные и строгие, рядом со своим наставником Квинтилианом. Их пропустили вперед, однако позади ждала неисчислимая толпа, улица была запружена людьми, которые хотели взглянуть на мертвого. Но близнецы не торопились, и даже когда Квинтилиан в отменно учтивых словах напомнил им, что пора идти, они не двинулись с места. Не отрываясь смотрели они на мертвое лицо любимого друга. Они привыкли к смерти, несмотря на юные годы они знали многих расставшихся с жизнью, и мало кому из этих ушедших довелось мирно умереть в собственной постели. Кровавая кончина постигла их отца, кровавая кончина постигла их деда и дядю, и как бы покойно и мирно ни лежал на этой опрокинутой кровати их друг Маттафий, они догадывались, – а в глубине души твердо знали, – что и его сразила рука, хорошо известная им обоим. Вот о чем думали они, стоя подле перевернутой кровати, они не плакали, они казались очень зрелыми и взрослыми, и если не считать упорства, с каким они воспротивились намерению их увести, Квинтилиану не в чем было упрекнуть своих воспитанников. Только под конец, перед самым уходом, младший не смог удержаться от ребяческой и достойной осуждения выходки. Из рукава своей тоги он достал павлинье перо и вложил в руку мертвому, чтобы в подземном царстве ему было на что порадоваться.
Беда, постигшая Иосифа, испугала евреев города Рима, но чуть заметное чувство удовлетворения примешивалось к их испугу. То, что теперь сокрушило Иосифа, было заслуженной карой Ягве. Они предупреждали: нехорошо рваться вверх так дерзко и похваляться так неумеренно, как этот Иосиф. Да, они были многим ему обязаны, но он же причинил им и великий вред, он был двусмысленным, опасным человеком, он был для них чужим и зловеще-непонятным, и они смиренно славили справедливого бога, который так предостерег его и грозною десницей вернул в надлежащие пределы.