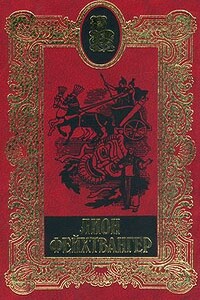Но убедиться, какое впечатление окажет на противника его гордыня и его великодушие, императору не довелось. Ибо Иосиф, по всей очевидности, уже не услыхал его кротких и возвышенных слов. Пустым, бессмысленным взглядом упирался он в императора, губы его все жевали, а потом внезапно мешком осел на пол.
Домициан, однако, еще не кончил своих речей, а удержать их про себя не мог, и так как сказать что бы то ни было Иосифу внемлющему было уже невозможно, он сказал обеспамятевшему.
– Твои богословы, – сказал он, – говорили мне, что день настанет. Но на моем и на твоем веку, мой Иосиф, он уже, наверное, не настанет, этот день.
Однажды вечером, вскоре после этого свидания с императором, короткий, мрачный и торжественный поезд прибыл к дому Иосифа. Он привез останки Маттафия Флавия, который погиб на службе императрице, по несчастной случайности сорвавшись с мачты на борту яхты «Голубая чайка». Искусство бальзамирования достигло высокого совершенства в городе Риме, и Домициан призвал лучших мастеров этого искусства. С помощью притираний, благовонных снадобий и, разумеется, грима они достигли того, что тело, привезенное в дом Иосифа, казалось красивым и почти вовсе не пострадавшим. Юная, с тщательно причесанными черными блестящими волосами, покоилась костистая голова – такая же, как прежде, и все же изменившаяся, ибо жизнь ей давали одни глаза, и глаза эти были теперь закрыты. И если красивая голова его мальчика, когда Иосиф в последний раз видел Маттафия живым, сидела на совсем еще детской шее, то теперь адамово яблоко выступало резче и мужественнее.
Иосиф собственной рукой опрокинул мебель в комнате сына[107] и сам положил на погребальное ложе вернувшегося домой Маттафия. Там он и сидел при скудном свете одной-единственной лампы, а на перевернутой кровати лежал мальчик.
В счастии Иосиф сделался человеком беспечным, человеком, который, испытывая страх перед собственными глубинами, не хочет объясняться с самим собой. Теперь же все его глубины раскрылись настежь, сокрытое и сокровенное взывало к нему оттуда, и никаким уверткам уже не было места. Когда умер его сын Симон-Яники, он колебался меж противоположными чувствами – в нем говорили и скорбь, и раскаяние, и самообличение, но вместе с тем и самооправдание, и возмущение против бога и против мира. А теперь, у трупа его сына Маттафия, лишь одно чувство владело им – отвращение и ненависть к самому себе.
Он не испытывал ненависти к императору. Император просто-напросто устранил юношу, в котором видел нежелательного претендента, на то было его императорское право. Он даже действовал с известной деликатностью. Ведь труп мог бы и исчезнуть, император мог отдать его морю и рыбам, и, рисуя себе, как носился бы по не ведающим покоя волнам его мертвый сын, Иосиф леденел от ужаса. Но император был снисходителен, он отдал мертвого сына отцу, он даже красиво убрал его для отца и начинил благовониями, снисходительный и бесконечно милосердный император. Нет, только одному человеку причитается ныне вся ненависть и все отвращение, и этот человек он сам, Иосиф бен Маттафий, Иосиф Флавий, дурак и хвастун, постаревший, но так и не набравшийся ума и толкнувший своего сына на путь к смерти. Теперь, у трупа Маттафия, внутреннее крушение Иосифа было куда опустошительнее, чем в те далекие дни, после гибели Симона-Яники. На этот раз ничего нельзя было исказить и вывернуть наизнанку, на этот раз всему причиною был он один. Если бы из чистой спеси, из духовного высокомерия он не признал своей принадлежности к роду Давида, Маттафий был бы жив. Если бы из одной лишь дурацкой отцовской гордыни он не оставил его подле себя, а отпустил с Марой в Иудею, Маттафий был бы жив. Если бы из пустейшего, суетного тщеславия он не отдал его на службу к Луции, Маттафий был бы жив. Его честолюбие, его суетность – вот что сгубило Маттафия.
Он был чудовищно, безумно самонадеян. Цезариона, того Цезариона, какого не смог сделать из своего сына великий Цезарь, задумал сделать из своего Маттафия он – жалкая обезьяна, силящаяся уподобиться великому человеку. Что бы он в своей жизни ни затевал, все делалось из тщеславия, из суетности. Из суетности приехал он молодым человеком в Рим, из суетности разыграл пророка и предрек Веспасиану власть над империей, из суетности взял на себя роль историографа Флавиев, из духовного высокомерия признал себя потомком Давида. Из суетности написал лживую, напыщенную беспристрастную «Всеобщую историю», из суетности – эффектно-пылкую апологию «Против Апиона». А теперь из суетности погубил своего сына Маттафия.