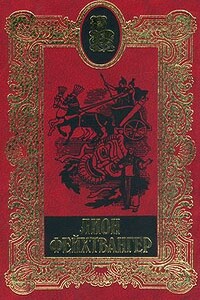– Благо человеку, который возглашает истину. Как так: благо ему? Боги открывают истину только в мистериях[106], значит, им не угодно, чтобы истина возглашалась всегда и всем подряд. То, о чем ты вещаешь в своих стихах, мой любезный, звучит вполне мило и занятно, но если вдуматься поглубже, так это бессмысленная чушь. – Он окинул Иосифа пристальным взглядом, словно зверя в одной из своих клеток. – Странно, – проговорил он и покачал головой, – как могут прийти человеку такие вздорные идеи. – И он еще и еще раз медленно покачал головой. И вдруг: – Стало быть, ты любишь своего Маттафия? – вернулся император к прежнему разговору.
«Псалом мужеству»… Маттафий… Чудовищный страх стиснул сердце Иосифа.
– Да, люблю, – вымолвил он с усилием.
– И, конечно, надеешься вознести его высоко? – расспрашивал Домициан. – Полон честолюбивых надежд? Хочешь сделать из него большого, очень большого человека?
Иосиф отвечал осторожно:
– Я знаю, что недостоин милостей, которыми осыпали меня владыка и бог Домициан и его предшественники. Но жизнь бросает меня то вверх, то вниз. И сына мне бы хотелось от этого уберечь. Что бы мне хотелось оставить в наследство сыну – так это безопасность.
И он не лгал. Ибо мечты о блеске и славе, которыми он окутывал своего сына Маттафия, отлетели в эту жестокую минуту, и он хотел вернуть мальчика сейчас, немедленно, и немедленно увезти его прочь из Рима – в Иудею, где безопасность и мир. И он возопил в душе к богу своему, да ниспошлет он ему силы в этот тяжкий миг, чтобы найти верные слова и спасти сына.
– Занятно, очень занятно, – продолжал между тем Домициан. – Вот, стало быть, о чем ты мечтаешь для своего Маттафия – о покое и безопасности. Но неужели ты думаешь, что учение при дворе – наивернейший путь к такой цели?
Иосифа поразило в самое сердце, что враг так безошибочно открыл его слабое место, его преступление. Да, ведь именно в том он и согрешил, что наставил сына на этот опасный путь. Он мучительно искал ответа.
– Императрице понравился мой мальчик, – нашелся он наконец. – Мог ли я сказать «нет», когда госпожа Луция предложила мне отдать сына к пей на службу? Я бы никогда не отважился на такую непочтительность.
Но Домициан, нащупав однажды слабое место своего врага – прислужника Ягве, уже не разжимал когтей.
– Если бы ты сам этого не хотел, – объявил он и укоряюще поднял палец, а в зеркальной обшивке стен поднялось множество пальцев, – ты бы нашел подобающие извинения. Но ты честолюбивый отец, – настаивал он, – признайся, будь откровенен.
– Конечно, каждый отец честолюбив, – согласился Иосиф и ощутил в себе слабость и пустоту.
– Вот видишь, – удовлетворенно сказал Домициан и запустил когти поглубже в рану. – Ты мне как-то говорил, что ты из рода Давида. Коль скоро ты сам признаешься в отцовском честолюбии, неужели тебе никогда не приходила мысль, что именно он, твой сын, мог бы оказаться избранником, вашим мессией?
У Иосифа побелели губя, пересохло в горле.
– Нет, – отвечал он, – об этом я не думал.
Объяснение с евреем представлялось сперва Домициану трудной задачей, задачей, которую он берет на себя лишь ради того, чтобы оправдаться перед Ягве. Но теперь, когда он видел лицо Иосифа, это худое, измученное лицо, – теперь тягостного бремени уже не было и в помине, наоборот, императора охватило огромное, дикое, свирепое желание увидеть, что станет делать этот человек, как поведет себя, как изменится в лице, какие слова он произнесет, когда узнает, что случилось с его сыном. Глаза императора жаждали это увидеть, его уши жаждали услышать вопль раненого врага, ненавистного врага, который бросил свои дерзкие речи прямо ему в лицо и полюбился его Луции.
И вот осторожно, вдумчиво, с удвоенной вкрадчивостью и коварством, взвешивая каждое слово, он продолжал:
– Если ты никогда не внушал своему сыну мысль, что он может оказаться избранником вашего Ягве, ты, видно, каким-либо иным образом разжег в нем честолюбие, или же он тебя неверно понял, или же, наконец, ваш бог с самого начала наградил его очень честолюбивым сердцем.
Иосиф с мучительным волнением следил за словами императора.