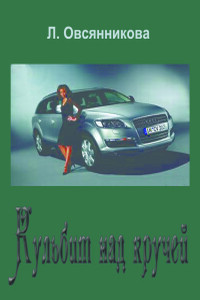Изнурило и мужчин от тех игр с грушами: не тяжело было, но утомительно. А здесь еще духота в раскаленной металлической коробке, безветрие, пыль выхватывалась из-под колес, настигала машину, вертящимися клубками влетала через открытые окна и оседала в салоне. Дышать было ничем.
Кум Иван мирно клевал носом. И вдруг подпрыгнул на сидении.
— Стой, ой стой, умираю!
Павел Дмитриевич не успел ничего спросить. Резко остановил машину, глаза вытаращил на кума, а тот — прожогом айда в кусты. Вскоре оттуда послышались кряканье и стоны.
— Кум! — крикнул Павел Дмитриевич.
— Га!
— Ты там живой?
— Нечистый бы поднял эту родственницу и трижды об землю хрястнул. Лучше бы я борща горячего наелся, чем ее молока, ее груш гнилых. Ведьма средневековая, метла распатланная, ступище деревянная. Знала же, что со мной случится, а промолчала... Чертяка, зараза болотная...
— Да не ругайся ты, как антихрист! Ополоумел что ли? Разве можно такое на родственницу говорить.
— Зажалела мне молока, гадюка, теперь живот наизнанку выворачивает, — Иван вышел из кустов, держа в руках расстегнутые штаны. — Какая она мне родственница? Седьмая вода на киселе.
— Ты уже, как дед Анисим. Почему штаны не застегнул?
— Ой, братцы, не доеду домой живым, так крутит внутри, так бурлит. Не мешай болеть.
— Так ехать или подождем?
— Поехали помаленьку, только не тряси меня.
— Горе мне с тобой. Как дитя малое! Когда ты успел молока напиться, что я не заметил?
— В том-то и дело.
— Ты что, не знаешь, что молоко с грушами — это гремучая смесь?
— Забыл.
Останавливались часто. В конце концов часа через два произошел перелом. Ивана попустило, и он снова начал подремывать.
Павел Дмитриевич боялся ехать быстро, чтобы не разбудить новую революцию в животе кума. От медленной езды сделалось еще более душно, так как тяжелый воздух совсем не двигался вокруг них, а хрупкие человеческие легкие не в состоянии были преодолеть его всеобъемлющую инерцию. Казалось, что следующий вдох сделать уже не удастся. Не удастся доставить в легкие загустевший, как мед, воздух, напитать кровь каплей перегретого кислорода. Смерть сделалась видимой. И от нее надо было обороняться доступными способами.
— Ты смотри! — разбудил Ивана его смешливый кум.
— Га? Что?
— Пока ты метил дорогу, мы неизвестно куда заехали, — сказал он растерянно. — Твоя Третьякова будто в другом мире лежит! Сто дорог от нее идут и все мимо Дивгорода. Может, нас леший водит?
— Лешие только ночью водят. А ты, если не знаешь географии, не брался бы ездить.
Они остановились на окраине хутора Полевого, откуда уже хорошо и, главное, красноречиво просматривались высокие промышленные сооружения Дивгорода, его многоэтажные жилые дома.
— Где мы оказались? — закручинился Павел Дмитриевич, осматривая окрестности поселеньица в несколько скособочившихся халуп.
— Как где, ты что, не видишь? Это Тургеневка.
— Что-то для Тургеневки тут хат маловато, ну да ладно. Тогда отсюда я легко дорогу найду, — издевался дальше водитель над кумом, зная его абсолютное неумение ориентироваться на местности, которое тот тщательно скрывал.
Подъехали совсем близко к своему поселку, остановились. Иван снова побежал на профилактику в кусты, а Павел Дмитриевич вышел из машины, вдохнул пробирающий чистотой до костей степной воздух.
— Кажется, мы снова заблудились, — сказал он. — Я по всему вижу, что это чужое село, а какое — не пойму.
— Это? — Иван показал на Дивгород, лежащий теперь перед ними, как на ладони.
— Ага.
— Так это же Тургеневка!
— Ты говорил, что перед этим была Тургеневка. Чего ты мне голову морочишь?
— Я не специально.
— Тогда говори, куда дальше ехать, ты здесь бывал десятки раз и должен ориентироваться.
— Холера его знает, езжай куда хочешь. Я все села наизусть не учил.
Дальше поехали молча. Шутка исчерпалась. Посадки давно отцвели маслинами, и теперь оттуда повевало запахом созревших терпко-сладких ягодок. Это благоухание было не таким стойким и щемящим, как цветы в мае, но разогретая солнцем скудненькая мякоть диких плодов отдавала иной, неуловимой полнотой, теплой печалью по весне и светлым заблуждением о вечной жизни.