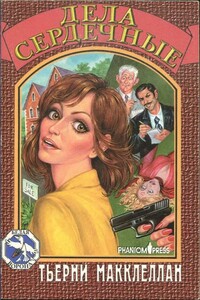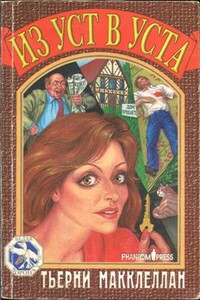Поскольку встречу назначил Матиас — и поскольку я продолжала оставаться невидимкой, — я предпочла не высовываться и предоставила Матиасу вести беседу.
Как вскоре выяснилось, это была не самая удачная стратегия.
— Мы пришли, чтобы просмотреть кое-какие бумаги отца, — без лишних церемоний выложил Матиас. — Для начала, его завещание. Я хочу взглянуть на оригинал. Не на копию, а на ориги…
Квадратная челюсть Гласснера вдруг приобрела сходство с гранитной скалой.
— Минуточку, — перебил он. — Как вас следует понимать? Вы что, сомневаетесь в подлинности завещания вашего отца? — Гласснер вдруг на глазах начал раздуваться; теперь он нависал над столом, хотя по-прежнему сидел в кресле. — К вашему сведению, я тридцать пять лет был адвокатом вашего отца и между нами не возникало даже тени каких-либо разногласий. Никогда! Ни разу! Не знаю, кто вас надоумил… — Тут он, как ни странно, взглянул на меня, впервые с тех пор, как я вошла в кабинет. Я подумала, что сейчас не время отвечать ему широкой улыбкой. — Но могу вас заверить, — торопливо продолжил Гласснер, — что завещание Эфраима Кросса подлинное и соответствует всем юридическим нормам.
Адвокат прямо-таки пылал негодованием.
Я решила вмешаться и попытаться сбить пламя:
— Мистер Гласснер, боюсь, вы неправильно поняли. Никаких обвинений…
Но Гласснер не желал остывать. Бросив гневный взгляд на меня, потом на Матиаса, он снова взял слово:
— Я лично приглашаю вас обоих побеседовать со всеми тремя свидетелями, в присутствии которых составлялся документ. Все они работают здесь. Одна из них — та прелестная дама, что проводила вас в этот кабинет.
Банни Листик? Она засвидетельствовала завещание?
— Они собственными глазами видели, как Эфраим подписал документ. — Гласснер посмотрел на меня еще свирепее, чем прежде. — А вы являетесь сюда и чуть ли не обвиняете меня в подделке завещания вашего отца. Какая ужасная ирония! Ведь именно я пытался отговорить Эфраима от составления этого документа.
Адвокат знал, чем заинтересовать Матиаса. Тот подался вперед, потирая бороду.
— Разве?
Гласснер возмущенно выпятил подбородок.
— Именно так! Я не раз говорил Эфраиму, что каких-то трех недель знакомства с этой… этой особой… (опять взгляд в мою сторону. И опять, мягко говоря, недружелюбный) недостаточно, чтобы оставить ей свыше ста тысяч долларов. За такой мизерный срок трудно хорошенько распознать человека.
В словах Гласснера был смысл. Три недели — это и впрямь не много. Срок, и в самом деле, настолько короткий, что я могла бы вспомнить последние двадцать дней моей жизни чуть ли не поминутно.
Эфраим Кросс не фигурировал ни в одной из этих минут.
Я не сталкивалась с ним на улице. Не разговаривала по телефону. Он вообще не попадался на моем пути за этот период. Сделка о продаже его доходного дома была завершена шесть недель назад. Тогда я и видела его в последний раз.
Но почему же в таком случае Эфраим Кросс сказал Гласснеру, что наслаждался моим обществом в течение трех недель? Ляпнул, не подумав?
Гласснер прищелкнул языком, якобы сокрушаясь.
— Но что бы я ему ни говорил, Эфраим не слушал. Мало того, он заявил, что в возрасте шестидесяти четырех лет впервые в жизни влюбился по уши. — Адвокат с осуждением покачал головой и выпятил губы. — Неслыханное дело! Человек, прожив с женой более сорока лет, заявляет, что никогда не был влюблен.
Я не отрывала глаз от адвоката, чтобы не смотреть на Матиаса. Гласснер только что сообщил, что отец Матиаса никогда не любил его мать. Вряд ли такая новость может поднять настроение.
Голос Матиаса прозвучал немного напряженно, когда он спросил:
— Мой отец действительно так сказал?
Гласснер все еще тряс головой:
— Говорю вам, Эфраим просто нес чепуху, сущую чепуху.
Не знаю, что именно имел в виду Гласснер: то ли он не верил в то, что Эфраим Кросс никогда прежде не был влюблен, то ли считал полной чепухой его внезапно вспыхнувшую страсть ко мне. Но уточнять я не стала.
Не стоит напрашиваться на оскорбления.
— Эфраим сказал, — торопливо продолжил Гласснер, — что вносит изменения в завещание, дабы единственная его любовь не ведала забот… если с ним что-нибудь случится. Я точно помню его слова: "Я всего лишь хочу оставить моему маленькому нежному лютику достаточно денег, чтобы она могла покупать себе подарки ко дню рождения, когда меня уже не будет рядом".