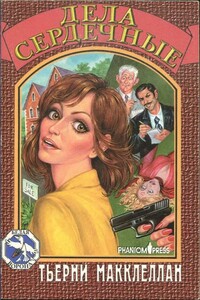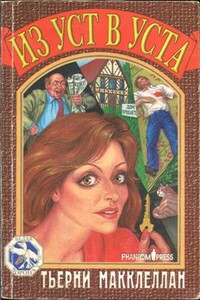— Зовите меня просто Эдисон. — Адвокат снова просиял улыбкой. Этому человеку подержанные машины бы продавать. — Еще пять дней назад все имущество Эфраима Кросса предназначалось его дорогой супруге. Но, встретив вас, он был просто… скажем так, околдован. Эфраим настоял на изменении завещания. — Гласснер наклонился ко мне. — Надо полагать, вы произвели на него неизгладимое впечатление.
По его лицу блуждала плотоядная усмешка. Чего он ожидал от меня: горделивой радости по поводу признания моих заслуг или возмущенной отповеди? Лично я склонялась к последнему.
— Эфраим также сказал мне, что вы отлично осведомлены о его намерениях, — продолжил Гласснер. — Вы знали, что он собирается оставить вам деньги.
Я моргнула.
— Неужели? — Полный бред. Да как я могла что-то знать, если ни разу в жизни не разговаривала с Кроссом?
Гласснер выбрался из кожаного кресла.
— Знаете, дорогая, — он снова обнажил зубы, — неплохо бы нам обсудить сложившееся положение за обедом. Согласны?
Я по-прежнему разглядывала Гласснера, а в горле у меня запершило. Существует ли связь между моей нынешней репутацией игрушки для богатых мужчин и неожиданным намерением Эдисона Гласснера преломить со мной хлеб? Не склоняюсь ли я к поспешным и несправедливым выводам, порочащим честь и достоинство адвоката?
Ну разумеется!
А может быть, это мистер Гласснер склоняется к поспешным выводам определенного сорта? Ведь он же ясно выразил свои мысли: "гм".
— Спасибо за приглашение, — ответила я, — но, пожалуй, я откажусь.
Гласснер был и впрямь недурен собой — особенно хороши были зубы — и, наверное, поэтому не привык, чтобы ему отказывали. Даже рот открыл от изумления, потом захлопнул, взял меня за руку и со значительным видом пожал.
— Вы не находите, что нам с вами есть о чем поговорить?
Скользнув глазами вниз, я не могла не заметить, что на среднем пальце адвоката сверкало обручальное кольцо.
Не знаю, но когда женщине исполняется сорок, с ней что-то происходит. Вдруг, совершенно внезапно, терпение лопается и ты отказываешься мириться с некоторыми вещами. Например, с навязчивыми типами, хватающими тебя за руки. Я выдернула руку, подавив желание немедленно вытереть ее об юбку. Затем подалась вперед и понизила голос:
— Хочу, чтобы вы меня правильно поняли. Проживи мы с вами хоть сто лет, нам все равно не о чем будет говорить. Никогда.
Глаза адвоката вдруг словно уменьшились, а сам он как-то скис. Затем глаза вернулись к нормальному размеру, и Гласснер глупо хихикнул.
— Миссис Риджвей, я имел в виду условия завещания. Именно их я собирался обсудить за обедом. Ничего более. — В голосе звучала обида.
На том наша беседа и закончилась. Ну конечно, ничего иного он не имел в виду, а я — королева Англии. Коротко кивнув, королева двинулась к выходу.
К тому времени, как я добралась до гаража и нашла свою машину, возмущение выходкой адвоката изрядно поутихло. Главным образом потому, что мое внимание внезапно привлек темно-синий седан, выруливший на улицу следом. На переднем сиденье я заметила двух парней в коричневых костюмах, тех самых, что сидели неподалеку от меня на оглашении завещания. Седан тащился по пятам за моей «тойотой» до самого дома, словно бродячий пес, изнывающий от желания куда-нибудь приткнуться.
Район, в котором я живу, получил название Холмы в тридцать седьмом году. В тот год река Огайо разлилась сильнее, чем обычно, и, кроме нашего района и еще кое-каких холмов, весь Луисвиль оказался под водой.
Уже несколько лет, как с наводнениями в городе покончено, с тех пор как построили то ли дамбу, то ли шлюзы, точно не припомню. Сегодня не имеет никакого значения, насколько высоко расположена местность. Подозреваю, что единственным оправданием названию нашего района остались цены на жилье, неуклонно стремящиеся в небо.
Разумеется, в начале семидесятых, когда мы с Эдом, моим тогдашним мужем, покупали дом, цены были еще вполне умеренными. Иначе я бы здесь сейчас не жила. Но и в те годы солидные кирпичные дома на тихих, усаженных деревьями улицах Холмов смотрелись аристократами по сравнению с прочими районами Луисвиля. Помнится, в день переезда Эд оттащил меня в сторонку и произнес снисходительным тоном, которым он владел в совершенстве: "Послушай, Скайлер, больше не стряхивай швабру перед парадной дверью. Здесь так не делают".