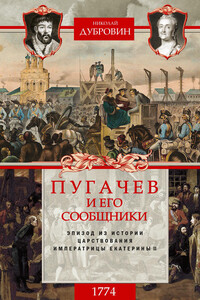Наши мистики-сектанты. Александр Федорович Лабзин и его журнал "Сионский Вестник" - страница 29
До преобразования духовных училищ в 1808 году, все предметы, не исключая и русской словесности, преподавались на латинском языке. От этого многие ученики отличались только знанием этого языка и искусством писать латинские стихи. «Для достижения и поддержания сей славы, — говорит митрополит Филарет [143], — ученики особенные усилия и большую часть времени употребляли на изучение латинских ораторов в стихотворцев. От сего происходили священники, которые довольно знали латинских и языческих писателей, но мало знали писателей священных и церковных; лучше могли говорить и писать на латинском языке, нежели на русском; имели память обремененную множеством слов, но ум не оплодотворенный живым познанием истины».
Богословие преподавалось исключительно на латинском языке, и руководством служила книга преосвященного Феофилакта, составлявшая не более как выдержки из лютеранского богословия Буддея. Пристрастие к латинизму имело дурное влияние уже по тому, говорит Филарет, что латинский язык по первоначальному своему образованию есть язык народа языческого, по теперешнему употреблению — язык церкви западной, а языком церкви восточной никогда не был и быть причины не имеет. Логику преподавали по Бакмейстеру, риторику — по Бургию, а математику, историю и географию считали предметами неважными и для преподавания их не находили достаточно знающих учителей. В последних был огромный недостаток. В Коломенской семинарии, где учился митрополит Филарет, было три учителя: один доморощенный, другой окончивший курс в С.-Петербургской духовной академии и третий — в Троицкой семинарии, и из всех трех доморощенный оказался лучшим. В 1800 году в Лаврской Московской ceминарии, куда перешел Филарет, философию учил молодой иеромонах Мельхиседек Минервин, который сам был не тверд в этой науке. Вообще философия понималась очень трудно, но идеи западных философов и энциклопедистов проникли и в духовные училища. Основанием философии было учение об идее бесконечного, как основном пункте нашей духовно-нравственной деятельности. Это учение излагалось словами Поарета, в системе которого веял мистический дух. Семинаристы увлекались системою «дружною с откровением и говорящею сердцу и воображению» [144]. В богословии говорилось только о книгах священного писания, да и то Ветхого Завета. Общие наши с протестантами трактаты, например о св. Троице, об искуплении и т. п., проходились порядочно, а другие, например о церкви, совсем не были читаны [145]. Богословские понятия, излагаемые на латинском языке, скованные слишком тяжелою школьною терминологиею, трудно понимались учениками, а по выходе из семинарии с трудом перелагались на русский язык, для сообщения их народу. Вся семинарская ученость заключалась преимущественно в ораторстве. Студентов учили писать стихи, и если являлись поэтические дарования, то они заглушались прозою семинарской жизни, нуждами и лишениями всякого рода и, наконец, долблением, не дающим пищи ни чувству, ни воображению. Полное же незнакомство с первоклассными нашими поэтами, читать которых запрещалось, как нечто вредное и безнравственное, было причиной, что из воспитанников семинарии не являлось поэтов, и стихи писались только по заказу.
Вместо испытаний и поверки знаний в науках устраивались так называемые диспуты, при которых ученики разделялись на две стороны: с какою твердостью один защищал истину, с такою же дерзостью другой усиливался доказать ложь; ловкое возражение было одобряемо не меньше, если не больше основательного опровержения. «Отсюда — склонность к спорам часто соблазнительным и никогда не полезным для наставления народа, потому что и возражение и решение их большею частью в школе выдуманы, в школьном виде представлены и не входят в круг понятий, обращающихся в народе».
Вообще положительных знаний выносилось очень немного. «Конечно, догматы веры я знал, — говорит П.С.Казанский