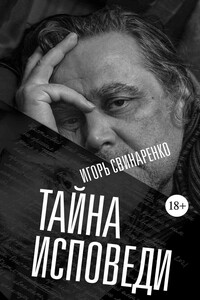"Я перевел уголовную энергию
в интеллектуальное русло"
-- У меня буйный, необузданный темперамент. Когда я был мальчишкой, меня не звали драться стенка на стенку -- но вызывали, когда били наших. Я бежал, схватив цепь или дубину, а однажды и вовсе пистолет, -- устремлялся убивать. Я был свиреп, как испанский идальго. Но мне удалось перевести мою уголовную, блатную сущность и энергию в интеллектуальное русло. Если бы Пикассо или Сикейросу не дали проявить себя в искусстве, они бы стали самыми страшными террористами. Я знаю, что говорю, я ведь был с ними знаком. В юные годы -- мне было лет четырнадцать -- я начитался книг про великих людей и задался вопросом: как в этом циничном мире может выжить человек с романтическим сознанием? Я тогда решил на себе проверить, что может сделать человек, который отверг законы социума и живет по своим правилам. Солженицын поставил социальную задачу, а я -- личную. Мой лозунг -- "ничего или все". Или я живу так, как хочу, или пусть меня убьют. Не уступать: никому -ничего -- никогда! Я столько раз должен был умереть... Я и умирал; в жизни было столько ситуаций, из которых невозможно было выйти живым, я в те ситуации попадал потому, что ни от чего не прятался, -- но какая-то сила меня хранила и спасла. Я удивляюсь, что дожил до своих лет.
Так чем же я взял? Смею вас заверить -- абсолютным безумием (мне показалось, что этот термин маэстро употребляет вместо слова "гений". -Прим. авт.) и работоспособностью. Та большая война
-- У вас наколки на руке по вашему рисунку?
-- Нет, рисунок не мой. Я был десантником, и все мы бабочек кололи, чтоб порхать. Бабочек и цветочки. А вот синее пятно -- видишь? Тут был выколот номер войсковой части, то есть это было разглашение военной тайны, -- так что начальство приказало заколоть... Эти наколки, конечно, глупость. Мы были мальчишки... Я приписал себе год и в семнадцать лет уже кончал военное училище, это был ускоренный выпуск. На фронт!
Но, не доехав до фронта, младший лейтенант попал под трибунал. За убийство офицера Красной Армии, который изнасиловал его девушку.
-- Я в войну шестьдесят два дня сидел приговоренный к расстрелу. Жопу подтирали пальцем, бумага ж была в дефиците, а я сказал -- давайте сделаем карты. Сделали! И шестьдесят два дня сидели играли в карты. В буру и в стос. И только благодаря этому не сошли с ума.
Его не расстреляли -- сочли, что это слишком расточительно. Всего только разжаловали в рядовые и отправили в штрафбат.
-- Вы не жалеете, что так вышло? А если б можно было переиграть?
-- Была б возможность убить его еще раз, я убил бы его снова...
Ты вообще знаешь, что такое смелость? Смелость -- это юность, это уверенность: "Мы не умрем". Это какая-то генетическая, блядь, ошибка, и от нее -- мысль про бессмертие. Это болезнь! И щас я физической смерти не боюсь. Я боюсь одного: недосовершиться.
На фронте мне сломали позвоночник, выбили три межпозвоночных диска, три года после войны я мог ходить только на костылях -- были страшные боли, я от боли даже стал заикаться. Боль утихала только от морфия. Чтоб отучить меня от наркотика, мой папа, врач, прописал мне спирт. Я стал пить. Уж лучше спирт... Художник и власть
-- Как начинается разговор про меня, так сразу вспоминают Хрущева. Как будто я не был художником до встречи с ним! -- кипятится Неизвестный. -Хрущев! Да его будут вспоминать потому, что он поссорился со мной. А Брежнев?.. Да, я пил водку с ним. Мой товарищ из ЦК как-то позвал меня пострелять по тарелкам с большими начальниками. Постреляли, выпили. После меня включили в правительственную охоту: "Должен же там в компании быть хоть один интеллигент". Мне был куплен роскошный "Зауэр", которому нет цены, чтоб не стыдно было ездить на охоту с Брежневым. Но я ни разу не съездил: сказывался больным. Они там обижались: "Как же без интеллигента, имей совесть, сам не едешь, так хоть порекомендуй кого-нибудь!" Так я из интеллигенции им посоветовал Вознесенского позвать. Прощание с СССР
-- Вы можете подробней рассказать, как вы уезжали?
-- Я никогда не был диссидентом, принципиально. Хотя неприятности у меня были вполне диссидентские. Мне не давали работы, не пускали на Запад. Против меня возбуждались уголовные дела, меня обвиняли в валютных махинациях, в шпионаже и прочем. Меня постоянно встречали на улице странные люди и избивали, ломали ребра, пальцы, нос. Кто это был? Наверное, Комитет. И в милицию меня забирали. Били там вусмерть -- ни за что. Обидно было страшно и больно во всех смыслах: мальчишки бьют фронтовика, инвалида войны... А утром встанешь, отмоешь кровь -- и в мастерскую; я ж скульптор, мне надо лепить. Нет, нет, я не был диссидентом -- готов был служить даже советской власти. Я же монументалист, мне нужны большие заказы. Но их не было. А хотелось работать! Я шестьдесят семь раз подавал заявление, чтоб меня отпустили на Запад, я хотел строить с Нимейером, он звал. Но меня не пускали! И тогда я решил вообще уехать из России. Андропов меня отговаривал: "Не уезжай, дождись мальчиков из МИМО, они подрастут и сделают все как надо, все будет!" Но я не мог терять время. И думал, что умру... ну, в шестьдесят. Надо было спешить, чтоб что-то успеть.