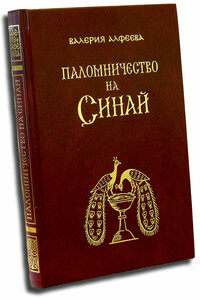Кроме того, по площади были расставлены бочки, в которых жгли дрова. Еще играла музыка — какой-то боевой украинский шансон. Во всяком случае, я разобрал слова «война», «стрелять», «москаль» и «смерть», что как бы намекало.
Непосредственно перед площадью стояла жидкая цепочка демонстрантов, из которой меня неожиданно строго окликнули:
— Це кто таков?
— Це пресса, — отозвался я аутентично, заодно помахав камерой у них перед носом.
— Проходи, — согласились со мной силуэты в сумраке, и я прошел.
Зашел я очень вовремя — среди тарахтения генераторов вдруг послышались звуки совсем других движков, помощнее, и на площадь заехали три тентованных грузовика. Машины встали неподалеку от стелы, не глуша двигатели.
Фары грузовиков были направлены на лагерь бунтовщиков, и в их свете стало видно мелькание десятков силуэтов в форме с дубинками в руках.
— А-а-а! — грозно отозвалась на это невидимая мне толком толпа.
— Граждане митингующие, просьба очистить территорию! — раздалось из темноты не менее грозное в мегафон сначала по-украински, затем по-русски.
— А вот хрен тебе!
— Это кто там гавкает!
— Слава Украине!
— Киев, вставай!
— Смерть ворогам!
Я поднял камеру, включил ее и понял, что она не пишет — экран не реагировал на мои истеричные нажатия на кнопку «запись». В этот момент солдаты национальной гвардии пошли в атаку, начав разбирать ближайшую к себе палатку. Из палатки, громко и грязно матерясь, внезапно полезли здоровенные, пьяные и злые мужики. В свете фар грузовиков было видно, что у мужиков в руках тоже есть дубинки, а также что-то еще — мне вот показалось, что даже палицы или какое-то аналогичное средневековое оружие. Началось рукопашное сражение, на которое я мог лишь смотреть и материться не менее экспрессивно, чем его участники.
Неподалеку нашлась пустая скамейка, и я сел на нее, изучая настройки камеры. Почему она не пишет, я так и не понял, зато понял, что сегодня зачистить майдан у власти не получится — в атаку на солдат вдруг пошли какие-то несметные силы, отсиживавшиеся до того то ли в палатках, то ли в кафетериях неподалеку.
Армейские грузовики эта толпа вынесла за пределы площади буквально на руках, а солдат аккуратными, но действенными оплеухами отогнала еще дальше, куда-то в проулки, после чего некогда грозный голос в мегафоне сменил тональность и начал примирительно предлагать договариваться и, хотя бы, не жечь костры на площади.
— Граждане митингующие, мы же договаривались с вашим руководством — соблюдать общественный порядок, не жечь костры, не подвергать опасности общественные здания…
— С жинкой своей договариваться будешь, чтоб она тебе минет почаще делала, — весело кричали ему в ответ.
Очень скоро вокруг меня бурлила толпа в две-три тысячи очень энергичных, крепких спортивных мужчин, и это производило сильное впечатление — во всяком случае, я бы на месте военных не рискнул атаковать такую толпу без трехкратного перевеса.
А еще через полчаса эта энергичная толпа куда-то схлынула, оставив после себя послегрозовое ощущение: стихия ушла, но еще погромыхивает в небесах гром, намекая, что всегда может вернуться и повторить.
Впрочем, перед сценой народ толпился в прежнем количестве, и я пошел туда, на ходу разглядывая экран камеры в тщетных попытках понять, почему она не работает.
В толпе уже не было видно спортсменов, а взгляд натыкался все больше на пузатых мужичков в камуфляже или на каких-то вздорных хипстеров в кожанках и галифе, похожих на «красных» или «белых» персонажей художественных фильмов про гражданскую войну в России в прошлом веке. Отличали от прототипов их только балаклавы — сто лет назад прятать лица было прятать еще не принято, все мерзости делались глаза в глаза, и от души.
В этой красочной толпе громко и на разные голоса поносили жидов, москалей и американцев. А за сценой — я отчетливо слышал — , как кого-то жестоко били. То есть били без шуток — задавались какие-то резкие вопросы, потом следовали звучные удары и ясно слышимые ответные вопли избиваемого:
— Я не москаль, вы меня спутали! Я не москаль, вы меня спутали!
Тем временем на сцену вышел знакомый мне мужик в кургузой синей курточке, один из неизвестных отцов. Он взял микрофон и, кивая за сцену, откуда по-прежнему доносились страшные вопли, сообщил собравшимся: