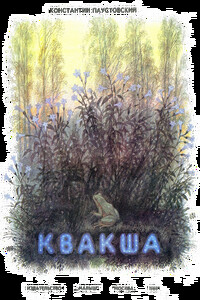Мне всегда казалось (а может быть, это было и действительно так), что Юрий Карлович всю жизнь беседовал про себя с гениями и детьми, с веселыми женщинами и добрыми чудаками.
Спорил он смело и превосходно. Свои возражения он вонзал в собеседника быстро и победоносно.
Вокруг Олеши существовала особая жизнь, отобранная им самим из окружавшей его действительности и украшенная его крылатым воображением. Эта жизнь шумела вокруг него, как описанная им в „Зависти“ ветка дерева, полная цветов и листьев.
Олеша был непрерывно влюблен в жизнь. Реальность была освещена отблеском каких-то своих внутренних праздников. В Олеше было что-то бетховенское, мощное, даже в его голосе. Его глаза находили вокруг много великолепных и утешительных вещей. Он писал о них коротко, точно, хорошо зная закон, что два слова могут быть неслыханно сильными, а четыре слова – уже вода.
В углу гостиничной комнаты стояла самодельная палка. На ее крючковатом набалдашнике висела клетчатая кошелка.
– Вот, – сказал Олеша и кивнул на кошелку, – когда придет последний час, я уйду отсюда пешком в Николаев, а потом в Херсон. Чтобы дойти, нужно ни о чем не думать, а только идти, идти, идти, пока держат ноги… Кстати, достаньте мне какую-нибудь карту, хоть из школьного атласа. Карты у меня нет.
Я слушал его и засыпал сидя. Надо было лечь хоть на час, отдохнуть. Олеша пошел вместе со мной по пустым коридорам гостиницы выбирать самую лучшую комнату.
Почти все окна были выбиты взрывной волной. По коридорам, вздувая пыльные бордовые портьеры, носились сквозняки. Вслед им трещали засохшими листьями пальмы.
Сон у меня прошел. Мы ходили по комнатам и привередничали, развенчивая одну комнату за другой. Одну за то, что в ней пахнет яичным мылом, другую – за разбитое трюмо, третью – за картину Маковского „Боярский пир“, запыленную известкой от недавнего взрыва.
Наконец мы выбрали самую маленькую и темную комнату. Она выходила окнами во внутренний дворик. Там росли вековые платаны.
– Это, – сказал Олеша, – будет, пожалуй, самая безопасная комната. Прямо блиндаж.
Я тотчас уснул, не раздеваясь. Проснулся я от далекого гула уходящих бомбардировщиков. Закатный свет золотился в старом, будто чешуйчатом стекле открытого окна. Я вскочил и пошел к Олеше. В номере его не было. Я нашел его в узком и темном зале знаменитого ресторана при „Лондонской гостинице“.
То был исторический ресторан. Как принято говорить в газетных очерках, „его стены видели“ многих знаменитых людей. Недавно еще этот зал сверкал хрусталями, серебром, орхидеями и мельхиором. Твердые синеватые скатерти на столиках холодили пальцы. Электрические лампочки загорались под вычурным лепным потолком, наполняясь апельсиновым светом. В серебряных ведерках таял лед, и меню было совершенно роскошным.
Сейчас зал был пуст, темен. Под потолком болезненно светилась единственная синяя лампочка – ее не гасили даже днем. И только два старых, как Одесса, седых официанта в помятых белых куртках бродили по залу, подавая пустой чай и черную скользкую вермишель. Олеша сидел за одиноким столиком с молчаливым негром – актером Одесской киностудии.
– Только что был налет, – сказал мне Олеша. – Вы его проспали. Ну, что вы скажете „за Одессу“?
Я сказал, что город изменился с начала войны, замер и одесситы потеряли традиционную живость.
– Че-пу-ха! – сказал Олеша раздельно и внятно. – Сивый бред. Одесситы не сдаются и не умирают. Их остроумие, их пресловутые „хохмы“ замешены на бесстрашии. Храбрость чахнет и умирает без острых слов. У вас предвзятое представление об одесситах. Так же, как, скажем, о Диогене.
Я прекрасно понимал, что я здесь ни при чем, что свое мнение о Диогене я никогда при Олеше не высказывал, хотя бы просто потому, что у меня его не было, Диоген был только поводом для какой-то острой выдумки.
– Вот, – сказал Олеша, – все, в том числе и вы, считают Диогена главой циников. А какой он циник! Он робкий, бестолковый старик. Жил, между прочим, в бочке. От бестолковости. А бочка все-таки какая-никакая, а жилплощадь. За нее надо платить. У Диогена, конечно, никогда не было ни копейки, ни драхмы. Хозяин бочки постоянно собирался выбросить старика из бочки за долги. Тогда Диоген шел к друзьям и знакомым и начинал, краснея, просить: „Дайте, если будет ваша милость, денег на бочку“. Боже мой, какой подымался вой и визг! „Деньги на бочку!“ Нахал! Рвач! Циник!»