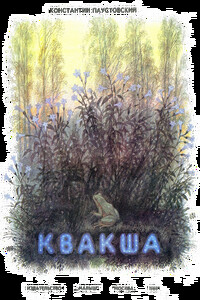Мы пошли в «Лондонскую гостиницу». Около Оперного театра лежала вырванная с корнями акация. Корни ее застряли на втором этаже, зацепившись за решетку балкона. Около подъезда стояла карета скорой помощи. С подоконника на втором этаже медленно капала на тротуар очень чистая кровь.
Над морем тянулся полосами дым. На Пересыпи не то что-то горело, не то всходила луна.
Фонари из «Трех толстяков» уцелели, и я обрадовался этому не меньше Олеши.
Я мог бы еще многое рассказать об Олеше, но мне трудно. Он умер недавно, и никак нельзя забыть его посмертное прекрасное лицо – лицо человека, спокойно задумавшегося перед нами, нельзя забыть маленькую красную розу в петлице его старенького пиджака, который я видел на нем много лет.
Таруса, 1961
В тридцатых годах наши писатели вновь открыли давно открытую Среднюю Азию. Открыли ее вновь потому, что приход советской власти в кишлаки, оазисы и пустыни представлял собой удивительное и увлекательное явление.
Спекшийся от столетий быт стран Средней Азии дал глубокие трещины.
На руинах мечетей расцветают по весне робкие розовые цветы. Они маленькие, но цепкие и живучие. Новая жизнь так же цепко, как эти цветы, расцветала в выжженных тысячелетних странах и приобретала невиданные и передовые формы.
Писать об этом было трудно, но необходимо и заманчиво. Самые легкие на подъем и закаленные писатели двинулись в сыпучие пески Кара-Кумов, на Памир, к пышным оазисам Ферганы и синим от изразцов твердыням Самарканда. Среди этих писателей были Николай Тихонов, Владимир Луговской, Василий Казин, Николай Никитин, Михаил Лоскутов и многие другие.
В это время я и познакомился с Лоскутовым.
В тридцатых годах мы особенно много ездили по стране, зимой же, возвратившись в Москву, жили очень веселым содружеством. Чуть не каждый день мы собирались у писателя Фраермана. Как я жалею сейчас, что не записывал тогда, хотя бы коротко, множество великолепных рассказов, услышанных на этих собраниях, множество интересных споров и смелых литературных планов. Каждый из нас считал святой обязанностью читать всем остальным свои новые вещи.
Очевидно по примеру пушкинского «Арзамаса», Аркадий Гайдар прозвал эти встречи у Фраермана «Конотопами».
Раз в месяц устраивался «Большой Конотоп». На него собиралось человек двадцать писателей. Каждую неделю бывал «Средний Конотоп» и, наконец, каждый вечер «Малый Конотоп». Его состав был почти неизменным. На нем бывали, кроме хозяина дома Фраермана, Аркадий Гайдар, Александр Роскин, Миша Лоскутов, Семен Гехт, редактор журнала «Наши достижения» Василий Бобрышев, Иван Халтурин, редактор журнала «Пионер» Боб Ивантер и я.
На «Конотопе» я, между прочим, услышал множество песенок и стихов, сочиненных Гайдаром. Он их никогда не записывал. Теперь почти все эти шутливые стихи забыты. Я помню одно, где Гайдар в очень трогательных тонах предавался размышлениям о своей будущей смерти:
Конотопские женщины свяжут
На могилу душистый венок.
Конотопские девушки скажут:
«Отчего это вмер паренек?»
Стихи кончались жалобным криком:
Ах, давайте машину скорее!
Ах, везите меня в «Конотоп»!
Миша Лоскутов появился в этом шумном собрании писателей тихо и молчаливо. Это был очень спокойный, застенчивый, чуть насмешливый человек. Но прежде всего и больше всего он был талантливым, и «чертовски талантливым», писателем.
У него было великолепное свойство видеть в обыденных вещах те черты, что всегда ускользают от поверхностного или усталого взгляда. Его писательское зрение отличалось необыкновенной зоркостью. Он умел показать в одной фразе внутреннее содержание человека и всю сложность и своеобразие его отношения к миру.
Мысли его всегда были своими, нигде не взятыми напрокат, необычайно ясными и свежими. Они возникали из «подробностей быстротекущей жизни», они всегда были основаны на конкретности, на своем видении совершенно реальной действительности. Но вместе с тем они были полны ощущения поэтической сущности жизни даже в тех ее проявлениях, где, казалось, не было места поэзии.
Жизнь Лоскутова была как бы сплошной экспедицией в самые разнообразные области жизни. Но больше всего он любил Среднюю Азию. По натуре это был путешественник и тонкий наблюдатель. Если бы существовал на земле еще не открытый и не описанный континент, то Лоскутов первым бы ушел в его опасные и заманчивые дебри. Но ушел бы не с наивной восторженностью и порывом, а спокойно, с выдержкой и опытом подлинного путешественника – такого, как Пржевальский, Ливингстон или Обручев.