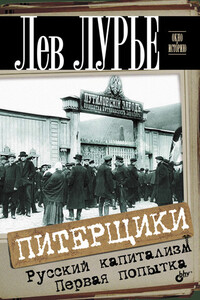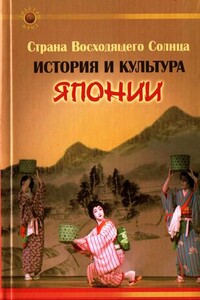Людмила Левина:«Евтушенко, Вознесенский, Ахмадулина вызвали огромный интерес к поэзии. После их выступлений стали выходить их книги, хоть и небольшими брошюрками… И вот постепенно все больше и больше народу стало интересоваться отделом поэзии, и отдел стал самым модным в магазине. Подсобное помещение у нас было в конце зала, и когда я несла книги, за мной шла толпа. Становились в очередь и начинали всё покупать, всё, вне зависимости от качества книги. Здесь был весь город, и приезжие тоже. Рядом Герценовский институт, недалеко Университет. В основном покупателями были молодые люди. Некоторые стали моими постоянными покупателями, любимцами, потому что их интерес к поэзии меня радовал и привлекал.
Тогда ещё имя Бродского не звучало. Я обратила внимание на человека, который покупает книги Большой серии библиотеки поэта. У меня был целый шкаф замечательных книг, которые мало кому были интересны. Тогда уже издавалась поэзия Державина, Тредиаковского. Покупатель Иосиф Бродский выделялся своим пристрастием именно к поэзии XVIII века, и я обратила на него внимание.
Он был яркий, веснушчатый, рыжий. Хорошо улыбающийся, хорошо разговаривающий, хорошо общающийся. А потом я уже его увидела на поэтическом вечере и поняла, что это замечательный, потрясающий поэт.
У Бродского был круг друзей-сверстников. Они были мне приятны и милы, и я их узнавала как постоянных покупателей. Я обратила на них внимание из-за их озорства на одном из первых Дней поэзии. Руководители ленинградского Союза писателей Авраменко, Прокофьев читали официальные малоинтересные стихи, и эти ребята их задирали.
Глеба Горбовского я тоже очень любила. У меня была приятельница, учительница, замечательной эрудиции, маленькая, хрупкая женщина, очень немолодая. И она познакомилась с Глебом в отделе поэзии. Они пошли в Казанский садик, и потом она мне рассказывала, как он её восхитил. Он ужасно ругался, был нетрезв и читал потрясающие стихи.
Помню Костю Кузьминского, приятеля Шемякина. Кожаные штаны у них были одни на двоих, и они по очереди приходили ко мне в них».
…Был этот голос мне знаком отлично,
я слушал бы его еще, еще,
но тут вступил еще один приятель,
он мне когда-то продавал носки
нейлоновые, звался он Альбертом
и жаловался вроде на судьбу.
«Ну, что хотел я? Одевать людей
в шузню и джинсы,
в „штатские“ рубашки,
из них предпочитая „батн-даун“,
в британские породистые кепки
и в итальянский трудоемкий шелк,
в бостон двубортный, в шелест кашемира,
в норвежские с оленем свитера.
Они меня за это расстреляли,
Я голым лег в могилу, и она
была запахана. Несправедливо.
Ну, как теперь я на суде не вашем,
а другом, судье предстану,
где я возьму меня достойный „сьют“
и прочее? Вот в чем вопрос,
и Гамлет
со мною не поделится плащом…»
Евгений Рейн
Фарцовка в ее классическом виде возникла в Ленинграде в конце 1950-х годов. До того приходилось довольствоваться редкими тряпками, привозимыми экипажами судов дальнего плавания, или копировать западные вещи у наших портных. В 1958-м у ленинградских модников и модниц появился новый источник познания и улучшения жизни. У Никиты Хрущева установились замечательные личные отношения с чемпионом Финляндии по прыжкам в высоту с места, президентом этой страны Урхо Калева Кекконеном. Они договорились позволить скромным финским лесорубам, купившим копеечную профсоюзную путевку, поездки на сказочный уикенд в Ленинград, с его баснословно дешевыми шампанским, балетом, черной икрой и приветливыми девушками. В июле 1958 года открылся туристический маршрут «Хельсинки — Ленинград — Москва». Первым рейсом прибыли 90 финских туристов на четырех автобусах. В дальнейшем отправлялось вначале 1–2 автобуса в неделю, потом — десятки. Помимо автобусов финны прибывали в Ленинград на поездах и на собственных машинах.
Легендарный ленинградский стиляга Валентин Тихоненко вспоминал: «Появляются люди: на автобусах, на поездах… И все с сумками. И прямо на улице показывают: будешь брать? Почему же не взять, если человек сам предлагает? Цены были копеечные. Тут же что-то взял, тут же надел. Я понимал: носить что-то слишком модное рискованно, комсомольцы отнимут, и выходил из дому в самом что ни на есть дрянном, а потом переодевался. Если мне что-то надо было, я подходил к тому, кто был моей комплекции. Иностранцы сами предлагали, отдавали за копейки. Отличить иностранца было просто: в его глазах нет следов прожитой жизни. Это люди, к которым так и тянет. Иностранцы были соответствующе одеты, они вели себя по-другому, улыбка доброжелательная, словом, их было видно за три версты. То, чем мы занимались, не было спекуляцией, ведь спекуляция предполагает покупку-продажу нескольких экземпляров каждой вещи. А я надевал на себя костюм, потом в нем ходил. Это не был бизнес, это был спектакль одного актера, в котором сценарий, режиссура и динамика сцены принадлежала лично мне. Финны продавали все за копейки, видели, что город голый. Но они не были благотворители: они везли вещи, чтобы окупить поездку. А стоило у нас все дешево — самому завзятому обжоре на сто рублей не выпить и не съесть».