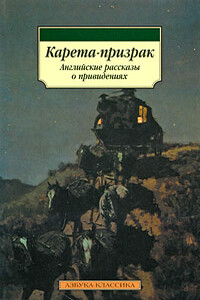— Вы всегда были мне хорошим другом, Ган, а может, мне так казалось. Я хочу сказать — трудно разобраться после того, что случилось, кому можно доверять, а кому нет. Но мне теперь все равно, и вы мне не можете навредить. И никто не может. Я хочу сказать, что теперь мне слишком поздно бояться, для меня уже мало что имеет значение…
Он завел рассказ издалека, с того времени, как они с женой и ребенком оказались в нищете и как он не знал, куда ему идти, где искать работу.
— Не судите меня строго, Ган, — помню, говорил он, — вы ведь никогда не попадали в безвыходное положение, а пока человек сам не испытает и не поймет, каково это, он не может со всей справедливостью судить… — (О Боже, если бы он только знал!)
Ну а потом он встретил Чарли Буллера, старого приятеля, и Буллер предложил ему поехать с ним к морю и заодно обделать кое-какие делишки. Он поехал, и только на месте до него дошло, что Буллер задумал. В разговоре со мной он упорно пытался мне внушить, что ни у Чарли, ни у него самого «не было дурных помыслов». Все случилось из-за того, что Буллер за что-то невзлюбил Борласа. Он просто хотел слегка попугать его, эту спесивую свинью. Хенч, однако, признался, что вскоре планы Буллера приняли более конкретный характер. Когда я прямо в лоб ему сказал, что у них было намерение украсть бриллианты миссис Борлас, он не стал отрицать, а, припертый к стенке, начал защищаться, пытаясь изобразить себя и своих сообщников этакими робингудами. Борласы, мол, богатые и жадные скоты, только о себе и думают, а в это время он с женой и ребенком буквально умирали от голода.
— Ну ладно, Хенч, — прервал я его, — давайте на этом закончим. Я ведь не говорю, что сам не дерзнул бы ограбить леди Борлас, подвернись мне такая возможность. Прекратите оправдываться.
Но поток излияний продолжался. Хенча нельзя было остановить. Я понял, что это уже давно стало для него навязчивой идеей, своего рода наваждением, и что он без конца ворошит в своей памяти события прошлых лет, будучи не в силах их забыть. Во мраке долгих бессонных ночей его душа перед лицом Создателя плачет и стонет, но и в слезах ему нет утешения. Нет, никакой он не преступник и не злодей, бедняга Хенч, и отроду в нем этого не было.
Наконец мне удалось прервать поток его самооправданий. Хенч продолжил свой рассказ. Было ясно, что окончательное решение у него созрело, когда Буллер в красках описал ему, какой негодяй этот Борлас (от себя замечу, что Борлас был просто беспросветный дурак). К этому прибавилось сознание собственной беспомощности при мысли о том, что жена с ребенком голодают. Но гораздо более сильное влияние, превосходящее все остальные доводы, на него возымел авторитет Осмунда, которого Хенч боготворил.
Но и это слово недостаточно полно выражает то восторженное чувство, которое Хенч тогда питал к Осмунду. Последний представлялся ему необъяснимым, загадочным созданием, кем-то наподобие божества, только в человеческом облике. Для него Осмунд олицетворял собой все то, чего в самом Хенче и в помине не было: истый джентльмен, великолепно сложен и развит физически, потрясающе храбр, бесконечно умен — и так далее, и так далее.
Когда Хенч узнал, что Осмунд участвует в авантюре, он больше не раздумывал. Конечно, он понимал, что для Осмунда такого банального мотива, как ограбление, не существовало, что тот шел на это, движимый ненавистью к Борласу, из-за дикого, неистового желания «насолить» ему. Хенч всегда потом считал (и в этом, смею вас заверить, он был прав), что Осмунд не допустил бы кражи, превратив все в дерзкую, отчаянную, некрасивую шутку. Например, раздел бы Борласа догола и искупал бы в пруду или привязал бы его в таком виде к обеденному столу, ну что-то в этом роде, — конечно, идиотская, ребяческая, пустая выходка, и не более.
Разговор неизбежно коснулся Пенджли. При упоминании его имени Хенч совсем потерял рассудок и на глазах превратился в безумца. Он словно уже ничего не соображал. Было впечатление, что нормальный, настоящий Хенч, выпрыгнув в окно, исчез в водах Стикса, а на его месте сидел трясущийся маньяк, в чьем мозгу теснились всякие бредовые мысли.