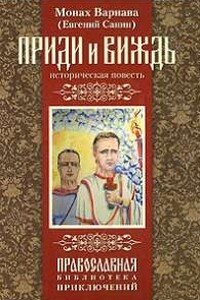Немного внимания обращавший на маленькую Софи в первые годы её жизни да и нечасто видевший дочь, Христиан-Август запомнил тот скучноватый вечер, когда в залу, где собрались десятка полтора приглашённых по какому-то поводу, вдруг вбежала (босые ножки, длинная рубашка, волосы на ночь распущены) отказывавшаяся укладываться толстощёкая девочка и звонко, словно бы продолжая разговор, закричала:
— C’est la meilleure mademoiselle possible![23]
Вбежавшая за Софи, смущённая такой неожиданной похвалой, Бабет взяла на руки и скоренько так унесла девочку.
— Надо же, совсем уже взрослая, — сказал, как подсказал, фон Лембке, прошедший к тому времени стадии лёгкого подпития, заметного опьянения, сильного опьянения и вновь казавшийся трезвым, если бы только не избыточный румянец на щеках.
От неурочного явления дочери с картинно раскиданными по плечам кудряшками, от слов готового рухнуть фон Лембке, ну и, пожалуй, оттого ещё, что время подоспело, Христиан-Август как бы даже опомнился: и вправду дочь! Причём большая такая, взрослая... Не меньшее изумление Христиана-Августа вызвал её французский щебет, поскольку сам принц за всю жизнь так и не овладел этим чужеродным наречием и для того, чтобы фактическое отсутствие языка не слишком бросалось в глаза, придумал целую систему, состоящую из превосходно заученных французских словечек и сложной мимической игры. В сочетании с умением понимать французскую речь эта система позволяла ему выглядеть вполне достойно и несколько даже загадочно, как выглядят, скажем, маскарадная маска, заштрихованный оконным стеклом женский профиль или одинокий прочерк вороньим крылом по снегу...
Да и гордость была, несомненная гордость: родная дочь-стрекоза обскакала-таки увальня-папашу!
Радость свою принц выражал как умел: обкармливал Софи конфетами, весело хохотал над её серьёзнейшими ответами, с чувством гладил по голове. Большая отцовская ладонь, утюжившая голову дочери, безжалостно сминала множественные тонкие кудряшки, об искусственном происхождении которых принц едва ли догадывался и на приготовление которых у Бабет уходила уйма времени.
Но всё это, разумеется, мелочи.
Принц, что более важно, вдруг полюбил свою некрасивую, несколько похожую на него лицом, ловкую, смышлёную дочь, с одинаковым проворством научившуюся лопотать на языке Мольера и взбираться к отцу на спину. Это последнее было совершенно восхитительным. Девочка не просила отца останавливаться, но подлавливала его идущим, с криком подбегала и, цепляясь за что попало, то есть за одежду, за волосы, если случалось, так и за ухо, в считанные секунды забиралась к родителю на спину, подобно тому как зверёныши взбираются на дерево. Замешанная на бесцеремонности, эта ловкость дочери умиляла и восхищала принца, хотя и раздражала Иоганну-Елизавету. Но это уж как водится.
Не без успеха продолжалась программа экономного обучения Софи, приправленная определённым везением. С назначением пышнотелой, темноволосой, лицом похожей на еврейку младшей Кардель девочка приобрела гувернантку и подругу — в одном лице; там, где материнские истерики и угрозы оказывались недейственными, на помощь приходила дружеская мягкость Бабет, и совершалось очередное маленькое чудо: Софи позволяла вымыть себе голову, или без разговоров укладывалась спать, или даже принималась уплетать овсяную кашу (от вида которой у самой Бабет подступала тошнота). Под стать Элизабет оказались и другие учителя. Преподаванием родного языка и каллиграфией с девочкой занимался добропорядочный старик Вагнер, музыке пытался научить дородный, похожий в профиль на принца добряк Реллиг; география, светская история и религиозное воспитание были отданы на откуп капеллану штеттинского гарнизона пастору Дове. Заручившись любовью Софи и некоторыми симпатиями Христиана-Августа, Бабет осторожно подсказывала принцессе, кого именно из учителей имеет смысл дополнительно пригласить к девочке. Именно с подачи Кардель то одному, то другому из осевших в Штеттине французов удавалось подкормиться от гостеприимного стола губернатора. Дольше иных милостями такого рода пользовались учитель французского чистописания Лоран и проповедник Перар. Последнего девочка ненавидела и какое-то время терпела исключительно из любви к Бабет. Ради мадемуазель стерпела бы и не такое!