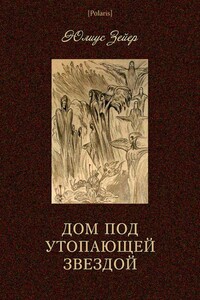— Тоже кое-что есть, — ответил тот. — Восемьсот пудов пшенички уже поехали.
Корягин одобрительно кивнул головой.
— Хорошо. Выходит, с богатеями нянькаться не надо.
Вошел Доронин, присел у стола. А за ним вбежал запыхавшийся Градов.
— Что у тебя, Филиппович, не пожар ли? — Корягин удивленно посмотрел на него.
— Хуже! — переведя дух, Градов взмахнул рукой и обратился к Доронину: — Федотович, выручай из беды. Треклята баба из дому гонит.
— За какие же это грехи? — тая улыбку, спросил Доронин.
— Клянет, что в коммуну записался, — затараторил Градов, не замечая сына, только что вошедшего в кабинет. — Закончил я с хлопцами обход дворов в своем квартале, отослал подводы с хлебом на ссыпку и домой подался. Прихожу, значит, и докладываю ей чин по чину, как положено: мол, так и так, дескать, в коммуну записался. А она, иродова баба, сразу меня в оборот, будто с цепи сорвалась. «Вот я тебе покажу коммуну, барбос стодиявольский!» Да как хряпнет каталкой меня по потылице, аж полымя в очах пыхнуло! А в голове точь-в-точь перезвоны после великодня. Вот глядите, какие увечья нанесла мне вражья баба. — И он начал оказывать товарищам свои шишки.
Леонид прыснул от смеха и нырнул за дверь. А старик Градов, кряхтя и потирая затылок, продолжал:
— Так что выручайте, люди добрые. Пойдемте к ней.
— Негоже, Филиппович, так в панику вдаваться, — шутливо-назидательно сказал Доронин. — Вы же фронтовик бывший и к тому же председатель квартального комитета. Нужно держать себя на высоте.
Градов развел руками.
— Что с нею поделаешь, Федотович? Она у меня часом как скаженная[77] бывает.
Все улыбнулись. Корягин набил трубку табаком, опустил свернутую бумажку в стекло лампы и, прикурив, сказал:
— Поможем в этом деле, — и, мигнув Доронину, спросил: — Как с продразверсткой в твоем квартале?
— Полторы тысячи пудов отправил, — доложил Градов. — Самых упорных обломал, а вот с бабой своей никак не справляюсь.
— Выручим, Филиппович. — Выходя из-за стола, Корягин обернулся к Доронину: — Пойдем, Павел Федотович, упрашивать норовистую.
* * *
Из-за темного закубанского леса выплыла запоздалая луна. По улицам двигались подводы, нагруженные зерном, скакали верховые чоновцы, проходили небольшими группами ночные облавы.
В ревкоме только что закончилось собрание молодежи. Парни и девушки шумно расходились по домам.
Клава пригласила Аминет к себе.
В тесной комнатушке зажгли каганец[78]. Его трепетный огонек излучал какой-то ласковый, мягкий свет.
Аминет сняла платок, взглянула в старенькое блеклое зеркало, висевшее на стене, и, поправив длинные косы и воротничок на белой кофточке, с улыбкой сказала:
— Очень хорошо, Клава, что тебя выбрали секретарем.
— Лучше было бы Леню Градова. Он больше учился.
— Это ничего, — протянула Аминет. — Не святые горшки лепят.
— И все же боязно, — призналась Клава.
В комнату вошла ее мать.
— О у нас гостья! — приветливо улыбнулась она.
— Отдел поручил ей организовать у нас комсомол.
— Я слыхала, — ответила мать и, помолчав, сказала: — Значит, будете жить по-новому, не так, как мы жили.
* * *
Едва загорелось утро, как Клава и Аминет вышли из хаты и торопливо зашагали по улице. Над станицей уже висел утренний гомон.
Возле двора Гиревого, залитого лучами восходящего солнца, собиралась молодежь. В соседнем дворе, вокруг восстанавливаемой школы лежал строительный лес, взятый у кулаков, песок, высились штабеля кирпича.
У школы Клаву и Аминет встретил Вьюн. Он не без гордости указал на двух парней, стоявших с Леонидом Градовым.
— Вот, пришли к нам.
Через площадь шагал Корягин, дымя трубкой. Веселая молодежь обступила его, и он, отпирая калитку двора Гиревого, воскликнул:
— О вас тут много уже собралось!
В нежилом доме пахло резкой затхлостью. Девчата раскрыли окна, и в комнаты хлынул свежий воздух.
— Тут и располагайтесь, — повел рукой Корягин. — Устраивайтесь по своему усмотрению.
— А если вернется Гиревой? — спросила Клава.
— Не вернется, — сказал Корягин. — Он с Деникиным отчалил в заграничные края.
Аминет подняла крышку пианино, стоявшего в зале, и осторожно прикоснулась пальцем к клавишу. Одинокая струна вздрогнула, весело зазвучала, и дом, казалось, сразу ожил, наполнился счастьем.