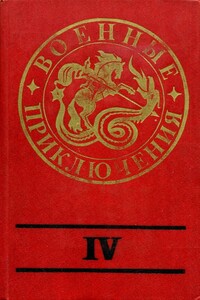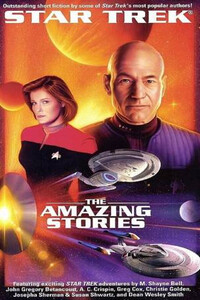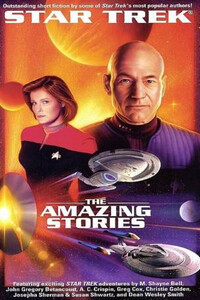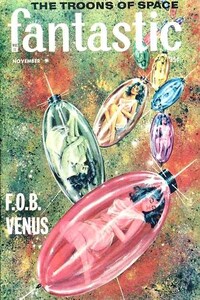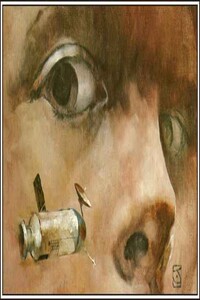Подорога сбросил куртку, засучил рукава. Он работал ловко и быстро, так, словно делал это всю жизнь.
Сердце напомнило о себе через час. Острая боль ударила в грудь. Андрей Петрович коротко охнул и повалился на бок, головой в опилки. Трясущимися пальцами достал из кармана таблетку, сунул под язык.
Братья плотники подняли его, взяли под руки с обеих сторон.
— Эх, батя, — сказал старший, — вам бы отдыхать… на черноморском пляже.
— Ничего, ничего, — пробормотал Подорога, — это пройдет.
Он устало закрыл глаза, почувствовал, что ноги оторвались от земли. Щека прижалась к жесткому, шершавому вороту брезентовой куртки. Понял: старший несет его на руках.
Первым в радиорубку прибежал Сашко.
— Вам нельзя вставать, — строго сказал он, присаживаясь на край стула.
Подорога взглянул на метеоролога тусклыми, равнодушными глазами. Здоровый девичий румянец заливал щеки парня, заставляя бледнеть многочисленные веснушки, капельки пота поблескивали на переносице.
«И я был таким», — с завистью подумал Андрей Петрович и улыбнулся.
Сашко по-мальчишески взмахнул руками, радостно крикнул:
— Вам сейчас изюмный компот нужен! — И умчался.
Андрею Петровичу полегчало. Он вздохнул сначала осторожно, потом глубже. Дышалось свободно, во всем теле была приятная слабость. Он встал. Боль ушла.
Когда от скал побежали длинные черно-красные тени, Андрей Петрович спустился в бухту. Над океаном долго и ровно горела холодная заря. Потом она погасла. Высокая волна подносила к ногам редкие звезды, спрашивала о чем-то на своем шипучем монотонном языке и, недовольно ворча, убегала назад.
Подорога ничего этого не замечал. В его карманах лежали опилки, пахнувшие руками матери. Он стоял один перед сумрачным лицом океана и думал о том, что самая первая человеческая любовь — к матери, месту, где вырос, по-настоящему приходит тогда, когда человек стареет. Ветер бережно уносил в темноту приглушенные непонятные слова. В лунном свете океан отливал серебром с чернью утесов.
Наутро за плотниками пришел катер.
Андрей Петрович, свежевыбритый, в меховой кожаной куртке, которую надевал только по праздникам, постучал в комнату начальника станции.
Горлов сидел на перевернутом табурете и, поплевывая на брусок, точил самодельный нож.
— Садись, Петрович.
Подорога, не снимая шапки, опустился на край стула.
— Я уж поеду, Василь Кузьмич, — сказал он и постучал себя по левой стороне груди. — Ты не обижайся на меня. Радиста тебе пришлют молодого. Не то что я — глухая тетеря…
Долгая звонкая тишина, как после умолкнувшего вдруг колокольного звона, повисла в комнате.
Горлов встал, прошелся по комнате, побарабанил пальцами по стеклу и снова тяжело сел на табуретку. И нельзя было понять, огорчен он или сердится. В эту минуту он показался Подороге трогательно-растерянным и близким.
— Нужно ехать, Петрович… На Большой земле все: режим, доктора… — глухо сказал начальник зимовки.
— Да… — согласился радист. Он повернулся к распахнутому окну и посмотрел в синее глубокое небо, отыскивая там что-то: ему послышался рокот мотора. Горизонт был пустынен. Одинокое облачко плыло по небу. Оно поднималось все выше и выше, пока на миг не закрыло солнце. Налившись его светом, облачко засветилось, затрепетало и растаяло.
— Рацию твою будем беречь, — нарушил молчание Горлов.
Подорога благодарно взглянул в глаза начальника и, как бы очнувшись, улыбнулся ему слабо и грустно.
— На нас не обижайся, если что не так. Нам будет трудно без тебя.
Андрей Петрович порывисто встал, протянул Горлову руку:
— Прощай, Василь Кузьмич.
— Прощай, Андрей Петрович.
Горлов взял со стола самодельный нож с ручкой из моржового клыка и протянул радисту.
Андрей Петрович спрятал нож и достал из верхнего кармана куртки трубку, вырезанную им из кости. Трубка была прокурена до желтизны и казалась сделанной из янтаря. Подорога вложил ее в руку Горлова. Они обнялись. Радист потоптался у двери, снял шапку и быстро вышел.
Дома он сложил свои немногочисленные вещи в потертый фибровый чемодан со сбитыми железными углами, сунул туда еще сушеной рыбы, несколько головок чесноку.
Умытая дождем галька захрупала под ногами. Сильный береговой ветер дружески обнял его за плечи.