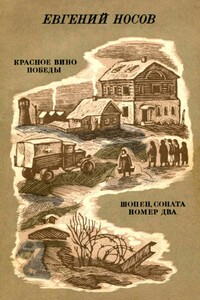— Чаевать не воевать, — говорит тут матросик в драной тельняшке, тот самый, что все до царя собирался добраться. Григорием его звали. — Ну, а мы уже свое отвоевали, впору чай распивать. Не знаем, кому ты там служил, генералу ли, адмиралу, а только пришел черед нам послужить.
Порешили тут же и раздуть этот самый самовар, отпраздновать покупку.
Стал я раздумывать, чем бы самовар растопить. В углу нашей казармы на полочках за ширмой какие-то деревянные зверюшки стояли. Точеные, размалеванные, разные-преразные — впору ребятишкам забавляться. А еще дюжины две реек было сложено. Каждая рейка тоже отполирована и сверху донизу исписана японскими закорючками. Что это за игрушки и планки, об ту пору никто не знал. Ну, а по мне, эти планки самый раз для самовара подходящи. Схватил я две штуки, вытащил во двор, раз-два об колено — и в трубу.
А тут из караульной будки японец вышел, дескать, посмотреть, чего это мы собрались в кучу, гогочем. Подошел, глянул на щепки, да как закричит, как замашет руками — и со всех ног в караулку. Переглянулись мы: что за черт? Неужто чайку нельзя попить?
Только слышим, в караулке переполох, Кричат, визжат. Ядреный якорь! Вот тебе выскакивает офицер, за ним — переводчик, а следом целый взвод солдат. Офицер коршуном налетел на самовар, опрокинул, стал бить в бока каблуком. А потом как заорет на нас!
— Господин Цубатака просит руса матроса строить два шеренга, — сказал нам переводчик, а сам скалит зубы, улыбается, такой, дьявол, вежливый был.
Построились. Ждем, что дальше будет. Ничего не понимаем, за что самовар искалечили. Из казармы вынесли рейку, офицер ткнул в нее пальцем, опять завизжал:
— Какая руса матроса ломала это?
Мы молчали.
Переводчик сказал, что, дескать, господину Цубатаке дюже жалко, что мы молчим, и он должен стрелять каждого второго матроса. «Вон куда обернулось дело! — подумал я. — За эту проклятую щепку всех перебьют». Глянул я вдоль шеренги, а матросы стоят пасмурные, страшные, на скулах желваки ходят. Ведь знают, что я поломал дранки, а не выдают. И, не поверите, забродила в моей груди какая-то хмель, ударила в голову. Радостно так стало, аж слезы навернулись. Эх, братушки! Да разве русского моряка штыком запугаешь? На-ка, выкуси!
Поправил я бескозырку, шагнул по всей форме из строя и говорю:
— Нате, стреляйте!
Подхватили меня солдаты, поволокли. Слышу, за спиной наши зашумели. «За что издеваетесь?» — кричат. Кинулись отнимать меня. Поднялась пальба. «Братухи! — кричу. — Не связывайтесь с ними, окаянными! А мне все едино. Я ведь еще под Цусимой должен был помереть!»
Кое-как загнали матросов в казарму, заперли. А меня поволокли за ворота. Лупили зверски. Прикрутили к пальме и секли бамбуковыми палками. Польют водой и опять лупят.
Целый месяц потом на циновках провалялся. Всю шкуру спустили. Ко мне потом переводчик все наведывался, подсядет рядом на корточки, скалит конские зубы и говорит:
— Твоя крепкая матроса. Скоро опять шибко бегать. — А сам тычет в угол, где эти самые рейки стояли, и приговаривает:
— Уй, как некарасо.
Оказывается, те самые зверюшки, что за ширмой на полках расставлены были, — их боги. А на планках записывали души погибших самураев — по пятьсот штук на каждую. Выходит, я сразу тыщу самураев в самоварную трубу запихнул. Знал бы, не трогал. Проку-то с них не шибко, разве что чайку б вскипятили.
Вот какая была, значит, история, — заключил Маркелыч и потрогал пальцами помятый бок самовара, не простыл ли. — Когда потом из плена уходили, я и его с собой прихватил. Жалко было бросать на чужбине. Да и то сказать, нам ведь обоим из-за этих самураев бока намяли. Только марку мы свою расейскую не потеряли. Луженые!