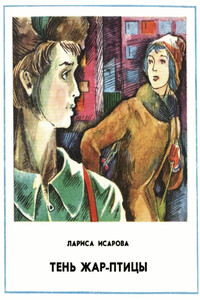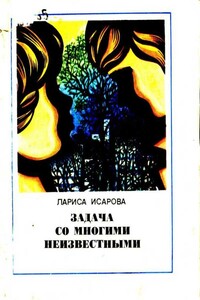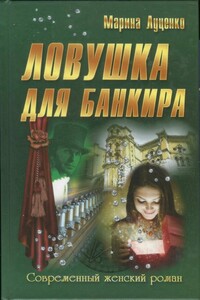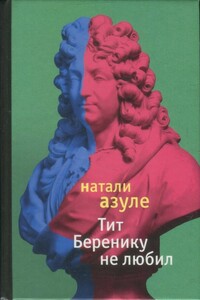— Прошу! — Лицо ее не дрогнуло при виде меня. Даже стало обидно. Все-таки бывшая ученица. Почти три года не виделись. Мы остановились в передней. Метров пятнадцать. Целый холл. Карельская береза, XVIII век, отличная музейная реставрация.
— Я все собиралась тебя навестить, но никак не могла выбраться. Это твоя коллекция?
— Частично. Большая часть вещей — мужа, остались от предков, я только реставрировала…
В комнаты она меня не зазывала, и я выстрелила наугад:
— Так надеялась застать у тебя Ланщикова…
Веки ее чуть дрогнули.
— Почему у меня? Мы с ним не виделись после его возвращения.
Секунду она колебалась, но здравый смысл победил неприязнь.
— Прошу в гостиную.
Я встала у порога большой светлой квадратной комнаты и с трудом сдержала улыбку, обзывая себя «снобом»: музейный интерьер, почти копия гостиной богатого помещичьего дома конца XVII века. Все сверкало, ни пылинки, ни пятнышка.
— Сама убираешь?
Она кивнула с творческой гордостью.
— Тебе стоило бы брать с гостей по тридцать копеек, как в музее, выдавая тапочки…
Она не улыбнулась, только рукой шевельнула, предлагая мне сесть. Непробиваема. Но в этой броне должна же быть брешь! Лужина в школе была импульсивна.
— Что за вышивку ты послала к Серегиной?
Угадала. Лицо ее вспыхнуло красными пятнами.
— Я ничего ей не посылала.
— Но Моторин сказал…
— Я могла тоже сообщить, что он велел мне отравить Серегину…
— Ты хоть слышала об этой вышивке?
— Я ничего не знаю.
Она легко приняла восемь лет назад ухаживания директора антикварного магазина Виталия Павловича, когда начала у него работать. Он был старше на тридцать лет. Кажется, она пыталась потом женить на себе Лисицына…
— Что-то не слышно детей…
— Гуляют. С аспирантом мужа. У меня специальная коляска для близнецов…
Она откровенно демонстрировала желание избавиться от меня. Я равнодушно смотрела на ее мебель. И тут я увидела у камина две небольшие овальные картины в великолепных рамах, увитых гирляндами бронзовых цветов, переплетенных бронзовыми лентами. Лица на портретах были мне знакомы. Он и Она. Оттянутые назад волосы, завитые буклями, заученно правильные улыбки, чуть приподнимающие уголки рта. Но ее глаза точно кричали от боли, пронзительно-трагические, униженные. Его — горделивые, уверенные в исполнении всех желаний — по праву рождения светили приветливо-равнодушно.
Я стала внимательнее рассматривать: копии? Нет, подпись, дата. Этих портретов ни в одном альбоме по искусству XVIII века я не видела. Наконец разобрала подпись — Аргунов. Конечно же, это Параша и граф. Я читала у Бессонова, что граф велел запечатлеть себя и ее, когда она стала официально «барской барыней».
— Портреты тоже от предков мужа?
Я не оборачивалась, но по небольшой паузе поняла, что Лужина снова солжет.
— Тоже. Его прадед был коллежский асессор…
Господи, хоть бы историю поучила! Хорош коллежский асессор с орденом Андрея Первозванного!
Портреты были погрудные, но такой живости, напряженной внутренней жизни я мало видела на картинах XVIII века. Казалось, что Николай Петрович сейчас повернется, чтобы послать Параше успокоительный взгляд, поддержать ее в те минуты, которые болезненно оскорбляли ее. Самолюбие, достоинство, гордость, не наигранные, не воспитанные, а природные — нелепые свойства характера для «крепостной девки…».
Тяжелые уверенные шаги грузного крупного мужчины. Я обернулась. В комнату вошел маленький, лысый человек с простоватым курносым лицом. Яркие, в багряных прожилках щеки, тонкие лиловые губы…
Он не обратил на меня никакого внимания. Не поздоровался.
— Вот тут деньги за свет, моя доля. За квартиру в этом месяце платишь ты, а я кладу на детей семьдесят пять рублей, плюс пять рублей за уборку.
Голос был чуть визгливый. Бедная Лужина! Везло ей на мужчин с женскими сопрано…
— Мне пришлось купить Ольге комбинезон…
— Меня это не касается.
И это профессор Лужиной?!
— И еще я оставил на кухне банку с растворимым кофе, мне такой хватает на четырнадцать дней, а тут кончилось за двенадцать.
Лысый человек горестно вздохнул и направился к двери. Я не выдержала, окликнула его:
— Простите, нас не представили, но я бы хотела…