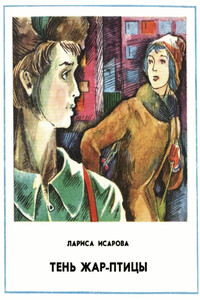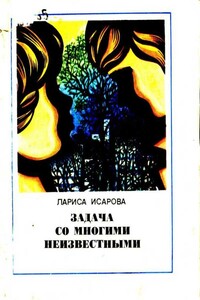— Просят… — с…
И девушка переступила порог, выпрямившись, как струна, высоко неся несчастную голову.
Граф Николай Петрович сидел возле камина. Он снял камзол. Белая рубашка с пышными кружевами подчеркивала его моложавость. С волос, забранных в косу, стряхнули пудру, они чуть вились на висках, и в них посверкивали седые нити…
Он вскочил, пошел ей навстречу, и в этой белой с голубым комнате девушка стала стремительно замерзать. У нее точно губы исчезли, голос, ей показалось, что она никогда не сможет произнести ни звука.
Странная робость охватила его. Граф наклонился, поднял ее шаль. Она смотрела прямо на него, но только волнистый рисунок шелковых обоев отражался в ее глазах.
Растерянность не проходила. Хоть бы взор опустила. Но ресницы Параши не шевелились. Статуя безмолвия, не дева.
Граф попробовал снять напряжение шуткой. Непринужденность всегда растапливала женские сердца.
— Помнишь позу Иродиады в моей любимой картине?
Ее молчание давило, точно глыба.
— Изобрази.
Все с тем же застывшем лицом Параша превратилась в танцующую зловещую фигуру, протянув руки вперед, точно держала в них золотое блюдо.
— Умница. А теперь изобрази деву со своей любимой картины.
Она подняла руку над головой, словно придерживала узкогорлый кувшин, изогнула стан, колеблясь на носках, взгляд ее ушел сквозь графа вдаль. В ее глазах будто запечатлелась пустыня, медовые пески, слепящий блеск солнца, марево воздуха…
Наваждение!
Она позволяла играть собой, точно куклой, легкая, гибкая, не произнося ни звука, то вспыхивая, то погасая от его новых причуд.
Графу казалось, что в его опочивальне сменилось несколько женщин. Такого изысканнейшего удовольствия он не испытывал никогда. Параша изображала всех дам, кто волновал в юности его воображение, всех, кого они вместе рассматривали в альбомах, всех, кто оставил болезненный и негасимый свет в сердцах умерших великих художников…
Она точно не ощущала усталости, после репетиций, спектакля, послушная, гибкая и почти неживая. Только ноздри трепетали, и все темнели, западали глаза.
— А теперь Данаю Тициана!
Параша изогнулась, откинула голову, одной рукой отталкивая золотой дождь, другой — ловя. Тень экстаза пробежала по лицу, страстного ожидания чуда…
Задыхаясь, граф схватил ее в объятья, сердце его так билось, что отдавалось в ушах… Еще мгновение, и все поплывет, исчезнет…
И вдруг, не шевельнувшись, она сказала:
— Не надо…
Голос прозвучал тускло, беспомощно.
Он хрипло рассмеялся, тоже весталка, крепостная девка, сотворенная им из грязи…
Рывком порвал лиф, обнажив грудь, руки, плечи, тонкие, как у птенца. Кожа холодная, точно мрамор, она не теплела под его прикосновениями, а ведь ладони его были раскаленными. Хоть бы глаза прикрыла. Взгляд ее жег, давил, тяжелый, горький, точно ледяные иглы вонзились в сердце.
— Глупая… да неужто… силой надобно брать?..
Она затаилась, не дыша. Ему стало тяжело, что-то теснило горло, он хотел рассмеяться и не мог.
— Иди… подожду, пока сама придешь, своей охотою…
Она поплыла к двери, прикрывшись белой шалью. Что-то жгло душу с такой силой, что она не могла вздохнуть.
Через несколько дней после первого чтения «Записок правнучки» мне позвонила Маруся Серегина. Я, по ее мнению, прочно принадлежала к категории «не совсем нужных людей»: ее сын школу закончил три года назад.
— Рыбонька, у тебя нет книг о Кускове и Останкине?
От изумления я чуть не прикусила язык. Маруся, скупавшая ковры ручной работы, музейными альбомами не увлекалась.
— Есть, а зачем вам?
— Потом, лапочка, как на блюдечке принесу…
Я представила ее широкое лицо, маленькие темные глаза, всегда оживленные, жизнерадостные. Странный интерес к музеям, внезапный…
— У меня есть альбомы, только старые, черно-белые…
— Умоляю, птичка, потрудись… — У Маруси при смехе точно металлические дробинки перекатывались в горле. — Передай с Мишкой, как забежит к твоей Анюте… Кажись, он к ней неравно дышит.
Я промолчала, хотя меня тоже удивляла дружба дочери с Гусаром. У него, кроме орлиного носа, черных усиков и учебы в МГИМО, ничего за душой не наблюдалось. Он приходил почти каждый вечер с японским транзистором, пил чай и слушал безостановочный треск Анюты. Болтливость моей дочери превышала норму, иногда мне казалось, слушая ее, что я — мать многодетной семьи.