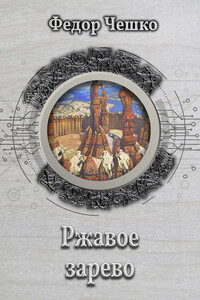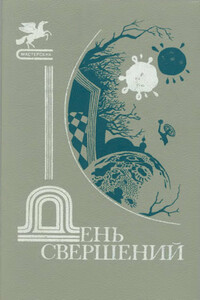Большинство из этих неправдоподобных подобий живших и выдуманных людей поставлено здесь чуть ли не до явления морского змия, но некоторые (Отроковица из Карры, Разд — укротитель людоедов и, кажется, еще двое) были причислены к сонму Благочинных позже. Нор так и не сумел толком осознать вопиющую несоразмерность перемен, произошедших внутри и вне Пантеона со дня его основания. Не сумел, хотя маэстро Тино наедине со своим учеником иногда позволял себе странные и опасные рассуждения.
Однако парень понимал (а главное — видел и чувствовал) вполне достаточно, чтобы относиться к Пантеону с отчетливой неприязнью. Особенно возмутительным казалось внутреннее убранство священного заведения. Несмотря на обилие витражей, полированного золота и блестящего камня, там всегда было нерадостно; высокий двускатный потолок покрывали величественные фрески, — действительно величественные, по-своему даже талантливые изображения почему-то обязательно вызывали у вошедшего твердую уверенность, что он ничтожен и во всем на свете виноват. Это усугублялось обилием всевозможных запретов. Нельзя касаться постаментов; нельзя самому выбирать и вешать поминальные лампадки; нельзя разговаривать громче, нежели полушепотом, и даже шаркать подошвами нельзя — поэтому вошедшему сразу же надлежало разуться.
Рюни не составило никакого труда стряхнуть сандалии в кучку стоптанной обуви, а вот Нор застрял. Он еще вчера успел обнаружить, что старые тесноватые сапоги при одной руке гораздо легче натягивать, чем снимать. Парень сопел, пыхтел, дергал, тянул, однако дело продвигалось туго (вот именно, туго — самое подходящее слово). Рюни изо всех сил делала вид, будто ничего особенного не происходит. Она вертела головой, внимательно рассматривала статуи, хоть бывала здесь бессчетное количество раз. Нор косился на девушку со смешанным чувством благодарности и досады. Спасибо, конечно, огромное за деликатность, только... Ну что она видит в этих изваяниях, чем они так ее привлекают?! Даже глиняные людоедские божки, которые расставлены на каминной полке в распивочном зале дядюшки Лима, — и те лучше. Да, у них ужасные, злобные, кровожадные рожи, но они честны; их злоба и кровожадность гораздо человечнее лицемерно добродетельных гримас, выдуманных орденскими ваятелями.
Парню вдруг вспомнилось, как орал на него однажды маэстро Тино, выведенный из себя неусидчивостью и строптивостью ученика. «Ты мерзкий тупица! Могучие Ветры в немыслимой щедрости наделили тебя сразу двумя редчайшими дарованиями: поэта и музыканта, а ты смеешь тратиться на уличные драки, на позорное мелкое воровство!» Зря, совершенно зря клавикорд-виртуоз надсаживался, размахивал кулаками перед лицом супящегося парня. Уж лучше бы всемогущие облагодетельствовали своими милостями кого-нибудь другого, лучше бы не иметь склонности ни к чему, кроме драк. Кому нужны проклятые дарования, если они заставляют видеть плохое в том, чем с удовольствием любуются прочие люди? Вот Рюни нравится смотреть на статуи, а ему это как тухлую треску нюхать... Значит, он и Рюни по-разному видят и думают? Дарования... Чтоб такими дарованиями бесы в пекле гордились! Болезнь какая-то, ущербность, увечье хуже однорукости!
Нор с лихвой выместил свое дурное настроение на сапогах, хотя они-то уж точно не имели отношения к музыке и стихосложению. Рюни следила исподтишка, как парень чуть ли не клочьями обдирает с ног злосчастную обувку. Она совсем растерялась: и помочь хотелось, и страшно было, что Нор воспримет помощь как унижение. Но с другой стороны, ведь, действительно, изорвет он единственные свои сапоги, и придется ему в деревянных громыхалках ходить, как последнему оборванцу. Новая обувь из кожи Нору не по достатку (ему сейчас все не по достатку, потому что никакого достатка у него нет), а в подарок принять откажется: гордый.
Нор справился сам. Вытирая полой куртки мокрые побагровевшие щеки, он осторожно заглянул в лицо Рюни: не вздумала ли жалеть? Кажется, не вздумала. Она делом занята — повязку на голове поправляет. Дорогая повязка, шелковая, узорчатая. Только Рюни и без всяких узоров хороша. И ничего она не изменилась, это у Нора, наверное, в Прорве от страха буек повело, вот и начала мерещиться всякая чушь: веснушки, золотые волосы... Глупость, бред, наваждение. Рюни всегда была такая, как нынче. Разве что шрам этот на щеке (скорее всего, память о боевой науке). Да еще платье — хорошо знакомое белое полотняное платье с простенькой вышивкой, любимое ее, давнее, но теперь оно гораздо плотнее обтягивает грудь...