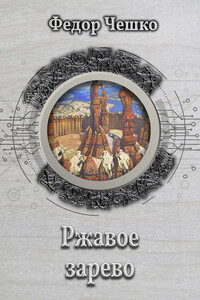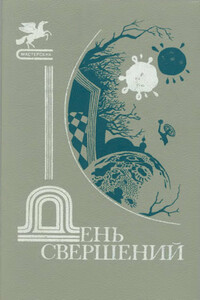Кстати, маэстро Тино, состоящий при Пантеоне хормейстером и клавикорд-виртуозом, клянется, будто местоположение святыни выбрано крайне мудро: «Только необходимость хоть изредка посещать разбросанные по всей Столице святые и присутственные места покуда еще мешает гражданам-горожанам окончательно разбиться на равнодушные одна к другой стаи и стайки. И так уже на вопрос: „Откуда ты?“ почти всегда отвечают названием улицы, а не города. Некогда спасавший государство всеобщий патриотизм зачах, обессилел и не способен выбраться за пределы родного квартала. Живем как моллюски, плотно сомкнув вокруг себя створки переулков и улиц... Нет, я не прав: даже моллюски живут лучше нас — они хоть не злобствуют друг на друга!»
Вот как говаривал почтеннейший клавикорд-виртуоз. Подобные речи были ему неприятны, однако он раз за разом повторял все те же слова, будто пьяница, который не имеет сил оторваться от обжигающего рот питья. Нор навсегда запомнил красные пятна на сухих скулах маэстро, его пышный парик, трясущийся словно бы в ужасе перед гневом владельца, и осыпающуюся с этого парика голубую пудру.
Впрочем, не менее явственно помнится парню надменно выпяченный подбородок бывшего Первого учителя. Господин Тантарр внушал своему ученику, что большое всегда может быть разъято на малое и что именно с любви к родному кварталу начинается тот великий патриотизм, об оскудении которого горюет почтенный маэстро. Кстати, в оскудении патриотизма господин Тантарр считал повинным упомянутого маэстро и подобных ему умников: слишком уж много они умничают последнее время.
Так кто же все-таки прав — клавикорд-виртуоз или виртуоз боевой стали? Нор не слишком задумывался над этим, он не считал себя способным судить разногласия столь достойных и разумных людей. Рассказал воителю о словах маэстро, выслушал возражения. Ну и что? Если бы маэстро узнал мнение воителя, он бы тоже стал возражать. Скорее всего, они оба отчасти правы. Но неполная правота — это лишь разновидность заблуждения, по крайней мере, так писал моралист Кириат, высокоученый уроженец древнего Латона.
Внутри Пантеона было гулко и сумрачно. Под стенами начинающегося прямо от входных врат длинного зала цепенели в неестественных позах статуи Благочинных, сработанные из редчайшего розового мрамора. Огромные фигуры на вычурных пьедесталах, увешанных гроздьями поминальных лампад. Вознесшиеся под потолок отшлифованные до блеска лица, величие и страстность которых раздражающе не вязались с бездумной слепотой неподвижных глаз.
Жуткое место. За серыми стенами гибнут и рождаются люди; катастрофа освежевала мир, будто рыбацкий нож снулую рыбу; Пенный Прибой все глубже вгрызается в твердь Последнего Хребта; проклятый Ниргу тянется к атоллам и побережью жадными щупальцами растущих наносных отмелей — все это снаружи. А здесь...
Самодовольно кривит испятнанные копотью губы Арс-основатель, великий открыватель земель и великий пират — холодный, насмешливый прищур; квадратные плечи; гордо выпяченная грудь закована в диковинный панцирь... Можно ли поверить, что в человеке этом не было ничего примечательнее кувалдоподобного подбородка?
Мучительно изогнув спину, тянет к потолку просящие руки Скорбящая Морячка. Она скорбит о погибшем, но не о муже или брате, а о погибшем вообще, о любом, причем скорбит уже сотни лет, и невольно хочется однажды пробраться в Пантеон незамеченным, чтобы успеть увидеть на ее лице скуку.
А вон там браво оперлась на меч Карранская Отроковица. Меч огромный, двуручный — этакой тяжестью вздумали снарядить хрупкую девочку! Разве трудно было понять, что не смогла бы она оружием победить лангенмаринские полчища? Разве трудно понять, что эти изнемогшие и уже готовые к бегству воины Ареда все-таки нашли в себе силы для сокрушительного удара, когда, задыхаясь от стыда и отчаяния, увидели бросающегося на врага ребенка? Десять — двенадцать лет ничем не примечательной жизни; потом — считанные мгновения подвига, оборванного мимолетным взблеском нацеленного в горло железа... И два долгих столетия мраморной лжи, единственная причина которой — неуемное рвение бездарного ваятеля. За что, всемогущие?!